Иванов В. Л., Что такое человек?
Начиная с греческих софистов («Человек есть мера всех вещей» — Протагор) и Сократа человек находится в фокусе внимания философов. И, конечно, неспроста. Так, Кант писал, что перед человеком стоят три радикальных вопроса: Что я могу познать? Что я должен делать? На что могу надеяться? — и все они сводятся к одному, самому радикальному вопросу: что есть человек? Так и Хайдеггер в своих попытках прорваться к Бытию вынужден обратиться к человеку как тому, кто задает метафизический вопрос о смысле Бытия. Поэтому философия неизбежно обращается к вопросу о человеке, даже если он её непосредственно не интересует.
Совершенно очевидно, что на вопрос, поставленный в такой форме, не может быть дан удовлетворительный ответ ни в этом эссе, ни в тысячи и одном таких эссе. Чем или кем бы ни был человек, а тайна сия велика, все библиотеки мира заставлены доказательством того факта, что вопрос в такой форме не может получить устраивающего всех разрешения. Можно сказать, что вопрос о человеке для нас является скорее тайной, чем проблемой. Наука, решая проблему, может дать удовлетворительное объяснение проблеме устройства атома, узнав, что он состоит из ядра и электрона, а ядро — из протонов и нейтронов. Но наука не может объяснить тайну, например, сознания, сведя её к деятельности нейронов. Человеческое сознание как тайна — это эмерджентное свойство системы нейронов, оно не редуцируемо к самим нейронам и их взаимодействию.
Также и тайна человека мне представляется нередуцируемой до буквальностей его биологической эволюции (а проблема человека, например, проблема его происхождения — редуцируема).
Тайна носит мистериальный характер, ощущение тайны человека приходит к тому, кто считает, что то, что происходит здесь, на Земле, судьбоносно, а это адресует нас к тайному предначертанию на челе человека. Человек — еще не завершен, это лишь набросок. Ницше, например, считал, что он есть лишь канат между животным и Сверхчеловеком (фактически, Сверх-звере-человеком).
Метафизико-экзистенциальный смысл исторического в том, чтобы исполнить предначертания Творца или иной высшей метафизической инстанции, носящий благой, творческий характер, относительно человека. Человек не может быть осмыслен как данность, т.е. исходя из него самого. И он не может быть сведен ни к буквальностям биологии, ни к своим свойствам: «двуногое животное без перьев» (Платон); zoo politicon (Аристотель); животное, умеющее смеяться (Спиноза); животное, умеющее обещать (Ницше); homo ludens Хейзинги; homo faber; шутливое «млекопитающее с мягкой мочкой уха» Гегеля; «совокупность общественных отношений» или «животное, производящее орудия труда» Маркса и т.п.. Придать завершенность и осмысленность Человеку может только История — или ничто. Та самая История, которая, по Анри Барбюсу, «выкликает нас по именам».
«человек единственное животное, для которого собственное ...
... случаев не один десяток. И это несомненно радует. Ведь только тогда достигается равноправие, когда, например, президент РФ равен перед законом ... каждый ребёнок имеет право вырожать свои взгляды по всем вопросом право на здоровье право на образование право на ... ней, которая включает в себя способы взаимодействия людей и формы их объединения. Семья-- это малая социальная группа , основанная на браке ...
В наши дни наступающего Постмодерна обращение к Истории как сверхценности является отнюдь не праздным. Непредвзятый взгляд на неразрешимые мировые проблемы приводит к выводу, что, если человек не станет Новым — то он и старым не останется. Он просто будет сметен с лица Земли, как мусор. Между тем, «состояние постмодерна» накладывает запрет на появление влиятельных метанарративов, которые в случае Истории являются Текстами, претендующими на новый тип жизнеустройства. Я вижу, что реальность плоха (и идет к катастрофе), я понимаю, что в ней не так, но я не могу в неё вторгнуться со своими проектами, потому что сама среда отвергает серьезное отношение к историческому. Любая попытка создания проекта вмиг находит свою клеточку в огромной матрице, мозаике других симулякр-проектов и проектиков. И нет субъекта, который мог бы взять на себя исторический проект, потому что общество без тоталитаризма традиции или тоталитаризма рациональности Модерна распалось на набор племен из сект и субкультур («номадическая культура» Делеза и Гваттари).
Постмодерн — время, когда считается, что никакая подлинная Новизна невозможна, что книга культуры уже написана, и все, что нам осталось — перебирать и комбинировать фрагменты и цитаты уже готового («игра в бисер»).
Отсюда, а также из идеи интертекстуальности, постструктуралисты и постмодернисты выводят идею смерти автора и, шире, смерти субъекта. Все это усугубляется тем, что правящий класс, безусловно, поддерживает приход Постмодерна: История велит уйти правящему буржуазному классу, поэтому он находит удобным отменить Историю через создание Общества Зрелища. Дух Истории умер, да здравствует Дух Игры. Кроме того, Постмодерн вступает в особые взаимоотношения со Смертью. Я бы назвал эти взаимоотношения любовью к смерти. Смерть была всегда, но было время, когда существовало нечто над нею (религиозное утешение).
Уничтожение утешения в Модерне привело к колоссальному экзистенциальному кризису Запада. В один прекрасный день абстрактный Жан-Филлип в Париже сказал себе: «а зачем мне надрываться, жить, и знать, что я смертный, идти наверх по крестному пути Истории? Плевать — едем вниз! Ах, как хорошо! Еще постмодернизма!» Так человек Постмодерна предал и проклял Историю, разменял её на цветные финтифлюшки, став молиться потреблению. Это есть состояние дистопии, т.е. невозможности всерьез обсуждать проекты будущего, которые снимают противоречия настоящего. Каждый, кто посмеет предположить, что возможно что-то кроме капитализма — человек с тоталитарным мышлением. Из сознания людей исчезает сама идея будущего (и долга перед будущими поколениями), ради которого можно как-то ограничить себя в настоящем. Вечное Настоящее! После нас — хоть потоп! Еще потребления, еще потребления!
Кризис образования и проблема определения идентичности в обществе ...
Ключевые слова: образование, кризис образования, идентичность, кризис идентичности, личность, модерн, общество постмодерна, глобализация, массовое общество, ... модели поведения. Соответственно, образовательная система, наверное впервые в истории, сталкивается с необходимостью не передать опыт, а ... который может сколько угодно повторяться в жизни каждого человека, в то время как лишь немногие, а ...
Но придет и второй этап — этап расплаты.
Я не знаю, что такое человек, потому что то, что мне эмпирически дано — это только набросок. Я смотрю на эти предначертания, и мысленно начинаю достраивать человека. У меня есть подозрение, чем должен быть человек, какая роль во Вселенной ему предначертана, и только исходя из этой телеологии человеческое Бытие-в-мире может быть осмысленным. Только под водительством великих смыслов (идеальных целей) человек может восходить. Историческая страсть к Новому является двигателем Истории. Я расскажу не о том, что такое эмпирически данный человек (не многовато ли ему уже отдано чести?), а о том, чем, как мне кажется, он должен быть в Сверхмодерне: историческом проекте, который я считаю единственной спасающей Историю, а значит — и шанс на завершение наброска человека, альтернативой Постмодерну. Пусть эпиграфом моих записей служат стихи Бодлера:
В один ненастный день, в тоске нечеловечьей,, Не вынося тягот, под скрежет якорей,, Мы всходим на корабль, и происходит встреча, Безмерности мечты с предельностью морей., Возможно ли творить, где всё живёт мгновенье,, Где гибнет красота, изменчива любовь,, И где поглотит всё холодное Забвенье,, Где в жерло Вечности всё возвратится вновь!, Экзистенциализм, кризис Модерна и Сверхмодерн
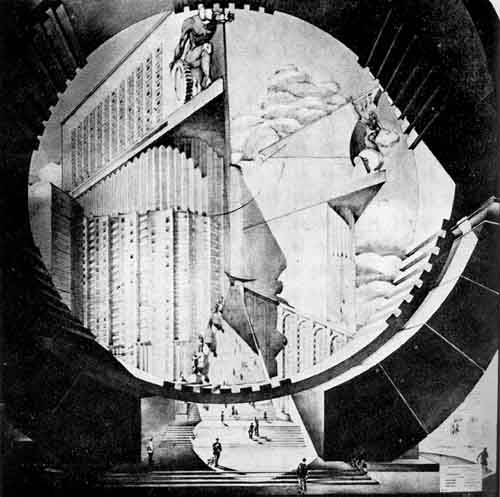
Вряд ли кто-то станет спорить с тезисом, что в основании любого исторического проекта (или, лучше сказать, исторической парадигмы) лежит более или менее определенное представление о том, что есть человек, что есть благо для человека, — и так далее. Под историческими парадигмами мы здесь понимаем широко известные Премодерн (включая так называемый «манифестационизм» и креационизм), Модерн и Постмодерн. Разумеется, я не утверждаю, что представление о человеке полностью исчерпывает фундаментальные коды исторической парадигмы. Это не так. Не менее важными являются представления о пространстве (однородное или неоднородное, сакральное или профанное, конечное или бесконечное и т.д.), времени (циклическое или линейное, бессмысленно-бесцельное или эсхатологическое и т.д.), гносеологические воззрения (мир познаваем или непознаваем, господствует рациональный дискурс или ризоматическое мышление и т.д.) и многое другое. Но мы сосредоточимся на антропологической проблематике в контексте кризиса Модерна: спектр вопросов и без того чрезмерно широк.
Под Модерном мы понимаем историческую эпоху приблизительно от Реформации и начала становления капитализма до середины ХХ века в Европе, Северной Америке и всюду, где проводилась так называемая модернизация , т.е. переход от парадигмы Премодерна к Модерну. Отношения Модерна и Ренессанса сложны и неоднозначны. С одной стороны, Возрождение определенно способствовало расшатыванию и диссоциации дотоле тотальной в Западной Европе парадигмы католического христианства. С другой — универсальный человек-гигант Ренессанса менее всего походит на массового, отчужденного и «очастиченного» человека, произведенного Модерном. Отсюда и лозунг французского персонализма (Э. Мунье): «Возродить Возрождение!».
Сопоставление индивидуальных и возрастных кризисов у взрослого человека
... лишением, фрустрацией. Кризис в некотором смысле является хирургическим вмешательством в структуру личности. Человек привыкает к определенной структуре своей жизни и ... работы, становится очевидно, что термин «кризис» употребляется в двух смыслах: закономерные кризисы, которые являются эволюционными этапами онтогенеза. К ним относятся возрастные кризисы, пенсионный кризис; - вероятностные кризисы, ...
Для Модерна характерно восприятие пространства как однородного и бесконечного, десакрализованного,, Исторический проект
Каковы же фундаментальные антропологические и историософские принципы проекта Модерн? Мы перечислим их (заведомо неполный) список без детальных пояснений:
- Человек — это константа. Оптимизировать можно способы производства, средства регулирования обществом — но ставить себе целью развитие человека нельзя. Не смейте трогать человека!
- Безутешительность Модерна. Бог либо умер, либо выведен за скобки деизмом. Мир безблагодатен, трансцендентное не пронизывает имманентное. мир — механическая машина, а наше рацио дано нам, чтобы взять у природы все, что нам нужно («Знание — власть!»).
- Социальная атомизация, т.е. разрушение сословной структуры традиционного общества и создание человека- индивида.
- Писаный, рациональный (а не данный свыше, сакральный) закон как регулятор социальной жизни.
- Принцип поощрения многообразия (в отличие от тоталитарности традиции), но — при наличии точки сбора в рациональности.
Проект Модерн даже в пору своего триумфа (XVIII — XIX века) никогда не оставался без внутренней оппозиции как со стороны альтернативных исторических проектов, так и со стороны философских направлений, критиковавших основные смыслы, которыми жил Модерн (рационализм, культ науки (сциентизм), гуманизм, свобода, прогресс для всех ).
Альтернативными Модерну проектами являются:
- Постмодерн как попытка обустроиться на обломках смыслового пантеона Модерна. Многочисленные расхожие ругательства по поводу постмодернизма я здесь воспроизводить не буду, хотя я целиком их разделяю и могу пополнить. Зловещее Солнце Постмодерна восходит прямо у нас на глазах. Человек постмодерна видится мне как недоразумение, курьез, которой к тому же постоянно занимается манифестацией своей первертности и свой (в основном, регрессивно-потребительский) образ жизни несет впереди себя, как знамя.
- Контрмодерн: вторичная архаизация, возврат к традиции, отвержение Модерна как скверны. В основном, Контромодерн «дан нам в ощущениях» как серия антимодернистских, радикально-исламистских сбросов в исламском мире («Арабская весна»).
С большим количеством оговорок современными теоретиками Контрмодерна являются Рене Генон, Юлиус Эвола, А. Дугин. Контромодерн сложным образом связан парадоксальными узами сотрудничества с Постмодерном: постмодерн легитимирует и узаконивает курьезный в ХIX веке традиционалистский выверт, а объединяет их общая ненависть к модерну. Связь с контрмодернистского
мировоззрения с эзотерикой нацизма (не будем же мы утверждать, что нацизм — это только Димитровская «это открытая террористическая диктатура наиболее реакционных, наиболее шовинистических, наиболее империалистических элементов…» и т.д.), оккультным гиттлеризмом (Мигель Серрано, Алистер Кроули) нуждается в детальном исследовании. - Сверхмодерн (коммунистическая альтернатива Модерну, или коммунистический постмодерн, оставшийся нереализованной гипотезой).
Все дальнейшее посвящено анализу непростых взаимоотношений экзистенциальной проблематики и двух исторических проектов: Модерна и Сверхмодерна.
Роль денег в современной жизни человека. «деньги и общество», ...
... в нашей жизни. Они определяют статус человека, его положение в обществе, успешность. Иногда кажется, что весь мир вращается вокруг денег. Они оказывают влияние на все сферы человеческой жизни. Мы постоянно ... поддержку. Такие люди похожи на Хлестакова из комедии Н. В. Гоголя «Ревизор». Тема денег всегда является актуальной и постоянно присутствует в нашей жизни. Деньги – это всего лишь средство, ...
Экзистенциализм, Можно выделить, мне кажется, три основных подхода к тому, что называть экзистенциализмом:
- Широкое понимание. В этом случае к экзистенциализму относят все духовные искания людей, которые ставят в центре внимания, в основном, четыре фактора: человеческую смертность и её осознание человеком; человеческая свобода; человеческое одиночество и изоляция от Другого; В этом случае к предтечам экзистенциализма можно отнести Книгу Иова, Экклезиаста, «Исповедь» Августина, «Опыты» Монтеня, весь собственно философский экзистенциализм а также русская литература в лице Достоевского, Толстого (особенно, «Исповедь» и «Смерть Ивана Ильича»), Чехова; абсолютно экзистенциален Кафка и другие. Сложилась также развитая экзистенциальная психология (несколько маргинальная в академической среде): Ролло Мэй, Людвиг Бинсвангер, Босс и также Ирвин Ялом с его интереснейшей книгой «Экзистенциальная психотерапия».
- Узкое понимание. В этом случае к экзистенциализму относят либо тех, кто сам называл себя экзистенциалистом (Сартр и Симона де Бовуар), либо небольшой круг философов ХХ века, осмысливавших экзистенциальную проблематику (Хайдеггер, Ясперс, Камю, Сартр и другие).
Такой подход удобен для написания учебников, но он урезает нечто существенное для нас.
- Диалектическое понимание. В этом подходе (которого я буду придерживаться) философский экзистенциализм понимается как реакция на кризис смыслов Модерна. Это реакция на смерть (убийство Бога), на засилье рационализма, сциентизма и позитивизма, духа Систем в философии. В этом случае к философскому экзистенциализму отнесятся (разумеется, далеко не все из этих философов целиком укладываются в экзистенциализм — мы лишь говорим о том, что эти философы внесли заметный вклад в осмысление экзистенциальной проблематики), прежде всего, Паскаль, немецкий романтизм, Кьеркегор, Ницше и философия жизни, Дильтей, Лев Шестов и Николай Бердяев, Мигель де Унамуно и Ортега-и-Гассет (последний, впрочем, одной ногой стоит в философии жизни), Карл Ясперс и Мартин Хайдеггер, Альбер Камю, Жан-Поль Сартр, Симона де Бовуар, Морис Мерло Понти, Габриель Марсель, Мартин Бубер, Отто Больнов и др. «Противниками» экзистенциализма (при всей условности и наличии контрпримеров, которые, впрочем, при внимательном рассмотрении лишь подтверждают тезис) являются такие философские направления, как позитивизм в трех его фазах с его культом безличной рациональной науки (например, наука как новая религия Конта), марксизм с его фиксацией на экономическом измерении жизни общества (мне могут возразить, рассказав про отчуждение и т.д., но, справедливости ради надо признать, что, в основном, многие вопросы вроде обратного влияния надстройки на базис были лишь обозначены, но не разработаны в марксизме), фрейдизм с его расщеплением личности, структурализм и др. Родственными экзистенциализму являются романтизм, философия жизни, герменевтика, диалектическая теология (Карл Барт, Пауль Тиллих с его книгой «Мужество Быть») и персонализм (Эммануэль Мунье с книгами «Манифест персонализма», «Надежда отчаявшихся» и др.).
8 стр., 3558 слов
Эссе почему люди не любят платить налоги
... вопрос моего эссе «Почему надо платить налоги?» обратимся к определению налогов. Налог - ... платить, в особенности за комфорт, и удобства. При этом, никто не жалеет ... налоги составляют примерно 80% государственного бюджета страны. Налоги, которые уплачиваются государству идут на: содержание людей, ... лишь малая доля, которую расходует государство из своего бюджета, а формируют бюджет именно налоги. ...
Отчасти родственна экзистенциализму франкфуртская школа (Адорно, Хоркхаймер, Ханна Арендт, Герберт Маркузе, Эрих Фромм и, наконец, Юрген Хабермас) как некий синтез марксизма, фрейдизма и экзистенциализма.
Несколько слов о том, что характерно для философского экзистенциализма как целого, как «леса».
Для экзистенциализма характерна острая неприязнь к духу позитивизма, «просвещенчества», исторического оптимизма (прогрессизм), натурализма и редукционизма в отношении человека (например, «Человек-машина» Ламетри и весь вульгарный материализм), философским Системам типа спинозовской или гегелевской («Все действительное — разумно»), абстрактного рационализма («абстрактное мышление — это мышление без мыслящего»), неприязнь к массам и толпам. Характерна тяга к антидетерменизму и неприязнь тех учений, которые отрицают свободу человека, спонтанность его выбора. Человек рассматривается как личность или индивид (здесь есть важное различие), а не как вид («Никто не заменит меня перед Богом» — С. Кьеркегор), он не сводится к «трансцендентальному гносеологическому субъекту» Канта, у которого, по Дильтею, вместо крови по жилам течет сок разума. Форма экзистенциалистского философствования радикально отлична от «мэйнстрима Модерна»: феноменологическое описание, мыслеобразы, афористичность, парадоксальность, иногда — вызывающий иррационализм.
Экзистенциализм делится на религиозный и нерелигиозный (к последнему можно отнести с уверенностью Сартра и Камю).
Впрочем, религиозные экзистенциалисты зачастую имеют весьма проблематичные отношения с религиозными институтами, для них дух имеет приоритет перед буквой. Бог — это тот, с кем говорят, а не тот, о ком говорят. Паскаль писал о «Боге Авраама, Исаака и Иакова, [а] не философов и ученых». «Что мы можем сказать о Боге? Ничего. Что мы можем сказать Богу? Все» (М. Цветаева).
Э. Мунье пишет: «Одна из самых разработанных тем экзистенциализма — это, разумеется, критика отчуждения, то есть опустошения личности, ее растворения во внешней среде, превращения в вещь, утраты себя как личности. Таково «развлечение» у Паскаля, «эстетическая стадия» у Кьеркегора, «неподлинная жизнь» у Хайдеггера, «объективированное бытие» у Бердяева, «срастание с «бытием-в-себе» и — как итог — «самообман» у Сартра».
Центральной для экзистенциализма является классическая философская оппозиция
Мы закончили краткий обзор экзистенциализма как «леса». Теперь же рассмотрим подробнее парочку персонажей. Мне недосуг описывать всех перечисленных авторов, но на некоторых фигурах и мыслях я все же должен остановиться.
Современный экономический человек: его сущность и тенденции развития
... для общественного экономического человека; только в обществе природа является для экономического человека звеном, связывающим человека с человеком, бытием его для другого и бытием другого для ... собственности). Таким образом, общественный характер присущ всему движению; как само экономическое общество производит экономического человека как человека, так и он производит экономическое общество. ...
Блез Паскаль (1623-1662)
Фигура Паскаля кажется мне чрезвычайно знаковой. Было время, когда Паскаль рассматривался как, с одной стороны, гениальнейший ученый, с другой, философской стороны — «мизантроп, обскурант, религиозный мракобес». В ХХ-м же веке выяснилось, что Паскаль уже в начале эпохи Модерна сумел сказать о его смыслах все плохое, что мы можем сказать, живя уже в Постмодерне. Естественно, что для выразителей духа Модерна (Вольтера, например) фигура Паскаля была чем-то тем, чем является распятие для вампира.
Паскаль в 12 лет самостоятельно вывел геометрию Евклида, в 16 лет написал прославивший его трактат о конических сечениях. Затем изобрел первый компьютер — арифмометр «Паскалина». Разработал вопросы гидростатики, создал теорию вероятностей. Вплотную приблизился к открытию интегрального и дифференциального исчисления.
И вдруг это сверхгений замолкает. И пишет: «Боюсь я этих математиков… Чего доброго, они и меня примут за какую-нибудь теорему». «Тот, кто не видит суетности окружающего, суетен сам». «Пустота этих бесконечных пространств пугает меня».
Что случилось? Паскаль проходит через серию «обращений» в религиозную веру — янсенизм (разновидность протестантизма во Франции, находящаяся в резкой оппозиции к иезуитам и либертинизму), случающихся синхронно с опытами пограничных ситуаций (смерть отца; едва не случившееся падение с моста кареты Паскаля).
Янсенизм же учит о похоти знания как порождении гордыни и тщеславия, и это учение Паскаль примеривает на себя. Он прекращает свои научные изыскания и становится истово верующим борцом с иезуитами, и, наконец, уходит в монастырь Пор-Рояль, оплот янсенизма. Тогда же он пишет некие отрывки, которые после его смерти собраны в книгу «Мысли». Я приведу некоторые отрывки из «Мыслей» (нужно привыкнуть, что к экзистенциализму можно подвести, но нельзя рассказать о нем, как о системе Гегеля):
- «Когда я оглядываюсь на короткий миг своей жизни, поглощенный бесконечностью со всех сторон, на то маленькое место, которое я занимаю, или даже вижу, захваченный бесконечностью космоса, которого я не знаю и который не знает меня, я боюсь и хочу увидеть себя скорее здесь, чем там, потому не существует причин, по которым я должен быть здесь, а не там, сейчас, а не тогда…» (Тема величия и ничтожества человека)
- «Человек – это всего лишь тростник, ничтожный тростник в природе, но он мыслящий тростник. Всей Вселенной нет никакой нужды вооружаться, чтобы уничтожить его: химеры, капли воды хватит для того, чтобы убить его. Но если бы Вселенная сокрушила его, то человек возрос бы в своем величии перед убийцей, потому что он знает, что умирает, и что у Вселенной есть власть над ним, но Вселенная об этом ничего не знает»
- » Пусть человек отдастся созерцанию при роды во всем ее высоком и неохватном величии, пусть отвратит взоры от ничтожных предметов, его окружающих. Пусть взглянет на ослепительный светоч, как неугасимый факел, озаряющий Вселенную; пусть ура зумеет, что Земля — всего лишь точка в сравнении с огромной орбитой, которую описывает это светило; пусть потрясется мыслью, что и сама эта огромная ор бита — не более чем еле приметная черточка по от ношению к орбитам других светил, текущих по небес ному своду. Но так как кругозор наш этим и ограни чен, пусть воображение летит за рубежи видимого; оно утомится, далеко не исчерпав природу. Весь зримый мир — лишь едва приметный штрих в необъятном ло не природы. Человеческой мысли не под силу охва тить ее. Сколько бы мы ни раздвигали пределы наших пространственных представлении, все равно в сравнении с сущим мы порождаем только атомы. Вселенная — это не имеющая границ сфера, центр ее всюду, окруж ность — нигде. И величайшее из доказательств все могущества Господня в том, что перед этой мыслью в растерянности застывает наше воображение… А потом, вновь обратившись к себе, пусть человек сравнит свое существо со всем сущим; пусть почувствует, как он затерян в этом глухом углу Вселенной, и, вы глядывая из тесной тюремной камеры, отведенной ему под жилье, — я имею в виду весь зримый мир, — пусть уразумеет, чего стоит вся наша Земля с ее державами и городами и, наконец, чего стоит он сам. Человек в бесконечности — что он значит?»
- Ибо в конечном счете что же он такое — человек во Вселенной? Небытие в сравнении с бесконечностью, все сущее в сравнении с небытием, нечто среднее между всем и ничем. Бесконечно далекий от понимания этих крайностей — конца мироздания и его начала, вовеки скрытых от людского взора непроницаемой тайной, — он равно не способен постичь небытие, из которого был извлечен, и бесконечность, которая его поглотит… При вечных отчаянных своих попытках познать на чало и конец сущего что улавливает он, кроме смутной видимости явлений? Все возникает из небытия и уно сится в бесконечность. Кто окинет взглядом столь не обозримый путь? Это чудо постижимо лишь его Творцу. И больше никому… Не давая себе труда задуматься над этими беско нечностями, люди дерзновенно берутся исследовать при роду, словно они хоть сколько-нибудь соразмерны с ней. Как не подивиться, когда в самонадеянности, не менее безграничной, чем предмет их исследований, они рас считывают постичь начало сущего, а затем все сущее! Ибо подобный замысел может быть порожден лишь самонадеянностью, безграничной, как природа, или столь же безграничным разумом.
- Почему знания мои ограниченны? Мой рост не велик? Срок моей жизни сто лет, а не тысяча? По какой причине природа остановилась именно на этом числе, а не на другом, хотя их бессчетное множество и нет причины выбрать это, а не то, тому предпочесть это?…Сколько держав даже не подозревают о нашем существовании!… Меня ужасает вечное безмолвие этих бесконеч ных пространств!
Как мы видим, Паскаль испытывал нечто, похожее на, Быть может, эти электроны, Миры, где пять материков,, Искусства, знанья, войны, троны, И память сорока веков!
Но ведь это уже ХХ век! Амбиции распоясавшегося человеческого рассудка представляются Паскалю, не страдавшему от нехватки мозгов, наивными в своей юношеской дерзости. В целом, Паскаль в эпоху систем — антисистемен, в эпоху объективизма — субъективен, в эпоху становления детерменизма — антидетерменистичен.
Роль философии в развитии и жизни человека и общества
... роль философии возрастала в кризисные периоды общественного развития, на переломных этапах, когда экономические, социально-политические и духовные потрясения каждый раз с новой остротой поднимали вопросы о сущности человека” смысле его бытия, ... проходящей через всю историю философии, оказалась идея свободы, воодушевлявшая передовые умы даже в самые мрачные периоды развития общества. От Сократа и до ...
Кризис современного человека и пути выхода из него
... идти по их пути. Другого способа успешной самореализации современный человек не знает. Вот почему можно сказать, что современный человек, способ его бытия находятся в кризисе и это та точка, в которой «пересекаются» интересы философии, ...
Мы пропускаем описание жизни и творчества Кьеркегора, настоящего философа отчаяния и страдания, порожденного, с одной стороны, его жизнью в ожидании смерти за грехи отца (одно из его произведений называется «Из записок еще живущего» ), а с другой — болезненному разрыву с Региной Ольсен. Его «диалектическая диада» или-или по существу является разработкой проблемы выбора и экзистенциальной ответственности. Чтобы хоть как-то загладить свою вину, я приведу лишь две цитаты из Кьеркегора, которые для понимания его философии значат подчас больше, чем все рассуждения, так сказать, извне его текстов (это примерно то же различие, что и различие между прослушиванием музыки Бетховена и выслушиванием бесконечных лекций о Бетховене):
- «Благодаря женщине в жизнь приходит идеальное. И кем был бы мужчина без него? Многие мужчины благодаря девушкам стали гениями, иные из них благодаря девушке стали святыми. Однако никто еще не стал гением благодаря той девушке, на которой женился; поступив так, он сможет стать лишь финансовым советником. Ни один мужчина не стал еще героем благодаря девушке, на которой женился; благодаря этому он может стать лишь генералом. Ни один мужчина не стал поэтом благодаря девушке, на которой женился, ибо посредством этого он становится лишь отцом. Никто еще не стал святым с помощью девушки, полученной в жены, ибо кандидат в святые не получает в жены никого; когда-то он мечтал о своей единственной возлюбленной, но не получил ее. Точно так же кто-то стал гением, героем, поэтом – благодаря девушке, которая не досталась ему в жены… Или, может быть, кто-то все же слышал о человеке, который стал поэтом благодаря своей жене? Женщина вдохновляет, покуда мужчина не владеет ею. Вот правда, лежащая в основе поэтической и женской фантазии»
- «…женишься — будешь жалеть, а не женишься — тоже будешь жалеть, так что женись не женись — жалеть будешь в любом случае, в любом случае все равно будешь жалеть … смеешься ли над глупостью этого мира — будешь жалеть, плачешь ли над ней — тоже будешь жалеть, так что плачь или смейся — жалеть будешь в любом случае, в любом случае все равно будешь жалеть … повесишься — будешь жалеть, не повесишься — тоже будешь жалеть, так что вешайся не вешайся — жалеть будешь в любом случае, все равно будешь жалеть … вот, господа, в чем заключается жизненная мудрость»
Мы опускаем также важные вопросы, разработанные Карлом Ясперсом. Это, прежде всего,, Мартин Хайдеггер (1889-1976)
Хайдеггер как бы случайно, походя разработал очень важный для экзистенциализма аппарат Dasein-аналитики. Человек не является тем, что больше всего волновало Хайдеггера. Его интересовала тайна Бытия. Почему есть Бытие, а не Ничто? Он был вынужден обратиться к человеческому Бытию. Видите ли, поставленный выше вопрос о смысле бытия не висит в воздухе, этот метафизический вопрос задает человек, и только он может его задать. Метафизический же вопрос, по Хайдеггеру (см. лекцию «Что такое метафизика?»), обладает двумя неотъемлемыми качествами: он захватывает все сущее в целом; и он бумерангом возвращается к самому человеку, задающему этот вопрос, ставя его самого под вопрос. Нужно оговориться: я считаю (как и Бурье, Адорно), что политические взгляды Хайдеггера тесно связаны с пафосом его философии. Но это не отменяет архиважности его вклада в разработку интересующего нас вопроса.
Итак, в фундаменте философии Хайдеггера заложено различение Бытия и Сущего (Das Sein и Das Seiende).
Сущее — это все существующее , то, что при-сутствует, наличествует, вся совокупность вещей, включая нас самих. Бытие же — это… Нельзя сказать, что Бытие — это что-то , ибо Бытие и есть ничто, но ничто из Сущего. То есть Бытие не есть вещь. Как только мы пытаемся вообразить себе Бытие как одно из Сущих (мир идей, некий антропоморфный Бог, говорящий Моиссею «Я есмь Сущее» или вообще любое пред-ставление (Vorstellung)), мы уходим от всей фундаментально-онтологической проблематики. Хайдеггеровское понимание Бытия можно, на мой взгляд, интерпретировать как некую закулису, которая приводит Сущее к существованию, благодаря которому Сущее существует. Действительно, мы привыкли воспринимать окружающие вещи как нечто естественное, само собой разумеющееся. В особом же настроении нам приоткрывается мир не как естественный, а как недоразумение. Почему есть Сущее, а не Ничто? Почему это Сущее подчинено именно таким законам? Кто установил эти законы? Почему есть только три пространственных и одно временное измерение? Что это все такое, откуда, почему оно существует именно в таких формах?
Различение Бытия и Сущего ни в коем случае нельзя мыслить, как различение сущего-1 и сущего-2. То же самое относится и к различению Ничто и Сущего. Хайдеггер в лекции «Что такое метафизика» говорит:
То, на что направлено наше мироотношение, есть само сущее — и больше ничто., То, чем руководствуется всякая установка, есть само сущее — и кроме него ничто., То, с чем работает вторгающееся в мир исследование, есть само сущее — и сверх того ничто.
Однако странное дело — как раз когда человек науки удостоверяет за собой свою самую подлинную суть, он явно или неявно говорит о чем-то другом. Исследованию подлежит только сущее и больше — ничего; одно сущее и кроме него — ничто; единственно сущее и сверх того — ничто.
Как обстоит дело с этим Ничто? Случайность ли, что мы совершенно само собой вдруг о нем заговорили? Действительно ли это просто манера речи — и больше ничего?
Хайдеггер утверждает, что Ничто не является логическим отрицанием («нет») всего Сущего, а, наоборот, именно Ничто как реальность обуславливает саму возможность логического отрицания:
Неужели Ничто имеется только потому, что имеется Нет, т.е. отрицание? Или как раз наоборот? Отрицание и Нет имеются только потому, что имеется Ничто? Это не только не решено, во даже и не поднято до эксплицитного вопроса. Мы будем утверждать: Ничто первоначальнее, чем Нет и отрицание.
Хайдеггер доказывает это через аппеляцию к некоторому экзистенциальному опыту, знакомому всем нам, опыту Ничто. Ничто «приоткрывается» нам в некоторой настроенности нашего Dasein. Наше Daein, подобно музыкальному инструменту, «не играет» само по себе: оно всегда существует в некоем модусе настроенности. Иногда, в настроении скуки, любви, или, самое важное, ужаса, нам приоткрывается нечто (хотя это не нечто!) фундаментально-онтологическое:
Случается ли в бытии человека такая настроенность, которая, подводит его к самому Ничто?
Это может происходить и действительно происходит — хоть достаточно редко — только на мгновенья, в фундаментальном настроении ужаса (страха).
Под этим “ужасом” мы понимаем не ту очень частую склонность ужасаться, которая, по сути дела, сродни излишней боязливости. Ужас в корне отличен от боязни. Мы боимся всегда того или другого конкретного сущего, которое нам в том или ином определенном отношении угрожает. Боязнь перед чем-то касается всегда тоже чего-то определенного. Поскольку боязни присуща эта очерченность причины и предмета, боязливый и робкий прочно связан вещами, среди которых находится. В стремлении спастись от чего-то — от этого вот — он теряется в отношении остального, т.е. в целом “теряет голову”.
При ужасе для такой сумятицы уже нет места. Чаще всего, как раз наоборот, ужасу присущ какой-то оцепенелый покой. Хоть ужас есть всегда ужас перед чем-то, но не перед этой вот конкретной вещью. Ужас перед чем-то есть всегда ужас от чего-то, но не от этой вот конкретной вещи. И неопределенность того, перед чем и от чего берет нас ужас, есть вовсе не простой недостаток определенности, а сущностная невозможность что бы то ни было определить. Она обнаруживается в нижеследующем известном объяснении.
В ужасе, мы говорим, “человеку делается жутко”. Что “делает себя” жутким и какому “человеку”? Мы не можем сказать, перед чем человеку жутко. Вообще делается жутко…
Ужас перебивает в нас способность речи. Раз сущее в целом ускользает и надвигается прямо-таки Ничто, перед его лицом умолкает всякое говорение с его “есть”. То, что, охваченные жутью, мы часто силимся нарушить пустую тишину ужаса именно все равно какими словами, только указывает на присутствие Ничто. Что ужасом приоткрывается Ничто, человек сам подтверждает сразу же, как только ужас отступит. В ясновидении, держащемся на свежем воспоминании, нам приходится признать: там, перед чем и по поводу чего нас охватил ужас, не было, “собственно”, ничего. Так оно и есть: само Ничто — как таковое — явилось нам.
То же самое объясняет Сартр в известном примере. Человек, гуляющий в горах, боится камня, который грозит упасть ему на голову. Это ужас? Нет, это страх . Это страх перед конкретным сущим . А вот он подходит к пропасти, и заглядывает в Бездну Ничто. И тут ему делается жутко . И это ужас не только перед Бездной вне, но Бездной свободы внутри: свободной прыгнуть в пропасть самому. В то же время, в психотерапии известен феномен смещения: ужас перед Ничто стремится перейти в страх перед нечто .
Можно ли тем самым утверждать, что Ничто существует? Нет. Существует Сущее, а
В ужасе заключено отшатывание от чего-то, которое, однако, есть уже не бегство, а оцепенелый покой. Это отшатывание берет начало от Ничто. Ничто не затягивает в себя, а по своему существу отсылает. Отсылание от себя как таковое есть вместе с тем — за счет того, что оно заставляет сущее ускользать, — отсылание к тонущему сущему в целом. Это отталкивающее отсылание к ускользающему сущему в целом, со всех сторон теснящее при ужасе наше бытие, есть существо. Ничто: ничтожение. Оно не есть ни уничтожение сущего, ни результат какого-то отрицания. Ничтожение никак не позволяет и списать себя на счет уничтожения и отрицания. Ничто само ничтожит.
И вот Хайдеггер возвращается к человеку, как задающему метафизический вопрос о Ничто, и заключает:
Только на основе изначальной явленности Ничто человеческое бытие может подойти к сущему и вникнуть в него. И поскольку наше бытие по своей сущности стоит в отношении к сущему, каким оно не является и каким оно само является, в качестве такого бытия оно всегда происходит из заранее уже открывшегося Ничто.
Человеческое бытие означает: выдвинутость в Ничто.
Выдвинутое в Ничто, наше бытие в любой момент всегда заранее уже выступает за пределы сущего в целом. Это выступание за сущее мы называем трансценденцией. Не будь наше бытие в основании своего существа трансцендирующим, т.е., как мы можем теперь сказать, не будь оно заранее всегда уже выдвинуто в Ничто, оно не могло бы встать в отношение к сущему, а стало быть, также и к самому себе.
Без изначальной раскрытости Ничто нет никакой самости и никакой свободы.
Итак, именно «вдвинутость в Ничто», то есть наличие опыта Ничто, делает человека не простым сущим среди сущих, а сущим, «дом которого — Бытие». Именно потому, что человеку дан опыт Ничто (осознание конечности, темпоральности своего Dasein), он может задаться вопросом о смысле Бытия.
Мы пропускаем обсуждение трех уровней восприятия (или анализа, исследования) мира: онтический, онтологический и фундаментально-онтологический (для выделения которого Хайдеггер вводит технический термин Seyn).
Также мы не останавливаемся на интересном фундаментально-онтологическом понимании времени: время не есть нечто добавочное к Бытию, оно, напротив, как бы «вложено в него». Некоторые интерпретаторы Хайдеггера утверждают, что для него человек, не обращенный к фундаментально-онтологической проблематике не попадает в историю Бытия (sein Gesicht), носящую судьбоносный характер. В этом смысле, такой человек (коих, разумеется, большинство; это большинство является своего рода обслугой философов и поэтов, но даже если оно хорошо поработает, оно все равно преходяще и сотрется из памяти Бытия) уже в прошлом, даже если он еще не родился. То, что стало прошедшим — никогда не было бывшим. А то, что было — то есть . Если очистить эти тезисы от очевидно гностически-черного налета, можно порассуждать на тему
- Единства живых и мертвых. Те, кто умер, особенно героически пожертвовав своею жизнью — не прошедшие, а бывшие. Они сбылись.
- Те люди, кто грядут — уже есть. Они будут. Большинство людей современного потребительского общества вообще забыли, что есть какое-то будущее, какие-то будущие поколения, ради которых нужно в чем-то себя ограничивать. Нет, после нас — хоть потоп. Такая близорукость не может не привести к глобальной катастрофе.
Хайдеггер интерпретирует историю западноевропейской философии, как поступательный процесс дезонтологизации, забвения вопроса о Бытии , опускания Солнца (вечерняя философия).
Досократическую философию он называет Великим Началом, в рамках которого греческие натурфилософы еще не утеряли живой контакт с вещами, искали архе , некую первопричину фюсиса, или более или менее абстрактные первоэлементы, из которого взялось Сущее (вода, воздух, апейрон, числа Пифагорейцев и т.д.).
Однако, со времен Платона (а, может, и с Парменида: « Бытие есть, а Небытия нет «) начался закат (к нему, впрочем, Хайдеггер не относится свысока).
Платон в диалоге «Государство» излагает в форме легенды о пещере свою теорию идей, которые-то и есть подлинное Бытие. Но идеи в мире эйдосов есть ничто иное, как гипостазированные вполне земные пред-ставления, репрезентации. Далее все было предопределено. Человек утерял «живой контакт» с вещами и стал, наоборот, бешено производить их в соответствии со своими пред-ставлениями. Впрочем, философия техники, которой увлекался поздний, «повернутый» Хайдеггер, говорит, что техника есть нечто неотъемлемое от сущности человека: это есть способ внегенетической передачи культурной информации, такого способа нет у животных. Об это есть замечательный философский фильм «Истр».
Так или иначе, деструкция продолжалась и дошла до Декарта. Декарт произвел очень важный переворот в треугольнике Бог-Субъект-Объект: теперь подлинным, субстанциальным бытием обладает не Бог-творец создающий тварь (ens creatum), а «я как мыслящая субстанция «. Декарт в «Рассуждении о методе» использует сомнение как некий оператор, который уничтожает любое пред-ставление:
Сомнение * внешний мир = 0, Сомнение * (все, в чем можно у-сомниться, т.е. пред-ставление) = 0
Но:
Сомнение * Сомнение * … * Сомнение = Сомнение,
То есть сомнение есть то, что не уничтожается сомнением, то есть это-то сомнение и есть единственное несомненное! Так, вкратце, Декарт приходит к тезису cogito ergo sum.
Декарту принадлежит и закрепление Субъект — Объектного противопоставления и зачатие новоевропейского рационализма. В Англии же господствовал так называемый эмпиризм (есть основания, особенно касательно Юма, сомневаться в точности этого названия).
Были попытки, типа Лейбница, преодоления субъект-объектного противопоставления (монадология), но её нельзя признать удачной: даже самая непротиворечивая философская система, противоречащая здравому смыслу, редко задерживается надолго. И тут появился Кант, и своим критицизмом и антиномиями показал, что в вершинах онтологичекого треугольника Бог-Субъект-Объект может быть — ничего нет (я имею ввиду доказательства наличия Бога и его отсутствия, постулирование наличия вещей-в-себе и др.).
По существу, в рамках этой схемы дезонтологизации Кант сильно опередил время. Заметьте, в эту схему не вписывается Гегель: это не случайно, мы еще скажем об этом. Гуссерль же, испытавший несомненное влияние как Канта, так и неокантианцев (как и Хайдеггер, учившийся у Риккерта), лишь закрепил очевидное: нужно избавиться от всех онтологических предположений и в актах феноменологической редукции ( эпохе ) дойти до непосредственного содержания сознания, феноменов, в которые находятся как бы на стыке внешнего и внутреннего мира. Хайдеггер, ученик Гуссерля («Феноменология — это я и Хайдеггер», сказал Гуссерль), испытал, так сказать, озарение Dasein («вот-бытие»): это то, что осталось после колоссального процесса забвения вопроса о Бытии.
Dasein не просто существует, а
- Dasein представляет собой Бытие-в-мире
- Dasein озабочен (Dasein ist die Sorge).
Работа Sorge организует предметный мир человека. Камень и труп — ничем не озабочены, им нет дела ни до чего. Можно провести параллель между заботой и гуссерелевской «интенциональностью», марксовыми «интересами», «волей к жизни», власти и т.д.
- Dasein пребывает в ситуации заброшенности. Никто не спрашивал, хочу ли я родиться, и никого не будет волновать, буду ли я хотеть жить на смертном одре. Нет такой инстанции и таких кабинетов, в которые можно прийти и написать жалобу на свою заброшенность. Здесь можно провести параллель с гностическим восприятием мира как «концентрационной Вселенной».
- Dasein пребывает в определенной настроенности.
- Dasein существует в двух модусах: аутентичное (подлинное) и неаутентичное (неподлинное) экзистирование Dasein.
- Неаутентичное экзистирование Dasein есть нечто похожее на «основное состояние» электрона в атоме. Вывести из него в аутентичный модус может некое потрясение, экзистенциальный опыт пограничной ситуации. Интересно, что, по Хайдеггеру, не «пронизывающая повседневность» низвергает Daein в неаутентичный модус, а, наоборот, само Dasein существует падающим в неаутентичное, и это падение конституирует структуру повседневности. Неаутентичный Dasein склонен к выпадению в Das Man («думают», «говорят»), т.е. к обезличению, снятию с себя бремени субъектности и авторства своих мнений и действий. Это есть ничто иное, как «бегство от свободы» Эриха Фромма. Свобода — это очень тяжело. Это своего рода прыжок от твердой почвы Das Man в Бездну спонтанности и ответственности, авторства. Это прыжок в аутентичный модус. Хайдеггер выделяет три феномена, связанные с неаутентичностью Daein:
- Болтовня. Неаутентичное Dasein не может заткнуться не на минуту. В наше время он обленился, ему стало лень болтать самому, и за него болтает телевизор. Болтовня — это как бы попытка «заговорить» наступающую со всех сторон Бездну Ничто. В аутентичном же модусе человек, испытывающий ужас Ничто — не хочет болтать или жрать.
- Любопытство. Отсюда, видимо, фетишизм, мода, потребление знаков. Согласно некоторым интерпретаторам, Хайдеггер остро не любит новое. Он уподобляет человека, который испытывает жажду новенького, человеку в музее, который не всматривается в одну картину, а скорее в режиме потребления пробегает как можно большее число картин. Тут, впрочем, мне нужно выступить в защиту нового и призвать различать Новое и Иное. Создание Нового, т.е. творчество, в том числе и историческое творчество — разве не отличается от созерцания Иного человеком, переключающим каналы телевидения?
- Двусмысленность.
- Аутентичное экзистирование Dasein есть Бытие-к-смерти. В него человек переходит через потрясение ужаса Ничто. Dasein в этом случае осознает себя фундаментально виновным, а в неаутентичном модусе он снимает с себя бремя вины и говорит «у меня не получилось», «это все козни врагов», «ну мы с вами не гении» и т.д. Аутентичный модус понимает, что он не покоится как сущее на других сущих, что он падает. Неаутентичный же — делает вид, как будто ничего не происходит, как будто он находится на твердой почве.
Такова аналитика Dasein Хайдеггера, играющая ключевую роль в современной экзистенциальной психотерапии. Нам осталось еще остановиться на некоторых проблемах, затронутых Альбером Камю, прежде чем мы перейдем к теме Сверхмодерна.
Альбер Камю (1913-1960)
Альбер Камю — скорее литератор, чем философ. Но как философ он без сомнения является философом абсурда. Он и умер, как положено, абсурдно: страдал неизлечимым туберкулезом, а погиб в автокатастрофе. Его главный литературный персонаж — Мерсо из повести «Посторонний» — эталон абсурдного человека. Абсурд возникает тогда, когда жажда человеком смысла жизни вступает в непримиримое противоречие с тем, как Камю считает, фактом, что никакого смысла в мире нет. Все иллюзии имеют одно общее имя: надежда. «Абсурд противоположен надежде ». Но абсурд может обрести смысл тогда, когда человек бросает ему вызов. Приведу некоторые цитаты из «Мифа о Сизифе»:
«Бывает, что привычные декорации рушатся. Подъем, трамвай, четыре часа в конторе или на заводе, обед, трамвай, четыре часа работы, ужин, сон; понедельник, вторник, среда, четверг, пятница, суббота, все в том же ритме — вот путь, по которому легко идти день за днем. Но однажды встает вопрос «зачем?». Все начинается с этой окрашенной недоумением скуки. «Начинается» — вот что важно. Скука является результатом машинальной жизни, но она же приводит в движение сознание. Скука пробуждает его и провоцирует дальнейшее: либо бессознательное возвращение в привычную колею, либо окончательное пробуждение»
В точности тоже самое описывает Макс Фриш в своей интереснейшей пьесе «Граф Эдерланд» (поразительно актуальной после абсурдного теракта Брейвика в Норвегии).
В первой сцене, которая называется «Прокурор устал», прокурор разговаривает со своей женой Эльзой:
Эльза : Мартин, уже поздно, два часа ночи, надо ложиться спать.
Прокурор : Знаю, знаю: через восемь часов я предстану перед судом в отвратительном черном облачении, чтобы вести обвинение, а на скамье подсудимых будет сидеть человек, которого я все больше и больше понимаю. Хотя он ничего не объяснил толком. Мужчина тридцати семи лет, кассир в банке, приятный человек, добросовестный служака на протяжении всей своей жизни. И вот этот добросовестный и бледный человек взял однажды в руки топор и убил привратника – ни за что ни про что. Почему?
Эльза : Почему же?
Прокурор молча курит.
Нельзя же думать только о делах, Мартин. Ты изводишь себя. Работать каждую ночь – да этого ни один человек не выдержит.
Прокурор : Просто возьмет однажды топор…
Эльза : Ты меня слышишь?
Прокурор продолжает молча курить.
Уже два часа.
Прокурор : Бывают минуты, когда я его понимаю… Четырнадцать лет в кассе – из месяца в месяц, из недели в неделю, изо дня в день. Человек выполняет свой долг, как каждый из нас. Взгляни на него! Вот, по единодушному мнению свидетелей, вполне добропорядочный человек, тихий, смирный квартиросъемщик, любитель природы и дальних прогулок, политикой не интересуется, холост, единственная страсть собирать грибы, нечестолюбив, застенчив, прилежен – прямо-таки образцовый служащий. (Кладет фотографию.) Бывают минуты, когда удивляешься, скорее, тем, кто не берет в руки топор. Все довольствуются своей призрачной жизнью. Работа для всех – добродетель. Добродетель – эрзац радости. А поскольку одной добродетели мало, есть другой эрзац – развлечения: свободный вечер, воскресенье за городом, приключения на экране…Он говорит, что я – единственный, первый человек, который его понимает.
Эльза : Кто говорит?
Прокурор : Убийца:
Эльза : Ты переутомился, Мартин, вот и все. Расшатал нервы. Один процесс за другим! Да еще при твоей аккуратности, добросовестности…
Прокурор : Да-да, конечно.
Эльза : Почему бы тебе не взять отпуск?
Прокурор : Да-да, конечно.
Эльза : Человеку это необходимо, Мартин.
Прокурор : Да-да, конечно. Может быть. А может быть, нет… Надежда на свободный вечер, на воскресенье за городом, эта пожизненная надежда на эрзац, включая жалкое упование на загробную жизнь… Может, стоит только отнять все эти надежды у миллионов чиновничьих душ, торчащих изо дня в день за своими столами,- и какой их охватит ужас, какое начнется брожение! Кто знает, может быть, деяние, которое мы называем преступным, – лишь кровавый иск, предъявляемый самой жизнью. Выдвигаемый против надежды – да, против эрзаца, против отсрочки…
В «Мифе о Сизифе» Камю финиширует так:
В этом вся тихая радость Сизифа. Ему принадлежит его судьба. Камень — его достояние. Точно так же абсурдный человек, глядя на свои муки, заставляет умолкнуть идолов. В неожиданно притихшей вселенной слышен шепот тысяч тонких восхитительных голосов, поднимающихся от земли. Это бессознательный, тайный зон всех образов мира — такова изнанка и такова цена победы. Солнца нет без тени, и необходимо познать ночь. Абсурдный человек говорит «да» — и его усилиям более нет конца. Если и есть личная судьба, то это отнюдь не предопределение свыше, либо, в кран нем случае, предопределение сводится к тому, как о нем судит сам человек: оно фатально и достойно презрения. В остальном он сознает себя властелином своих дней. В неумолимое мгновение. когда человек оборачивается и бросает взгляд на прожитую жизнь. Сизиф, вернувшись к камню, созерцает бессвязную последовательность действий, ставшую его судьбой. Она была сотворена им самим, соединена в одно целое его памятью и скреплена смертью. Убежденный в человеческом происхождении всего человеческого, желающий видеть и знающий, что ночи не будет конца, слепец продолжает путь. И вновь скатывается камень… Я оставляю Сизифа у подножия его горы! Ноша всегда найдется. Но Сизиф учит высшей верности, которая отвергает богов и двигает камни. Он тоже считает, что все хорошо. Эта вселенная, отныне лишенная властелина, не кажется ему ни бес плодной, ни ничтожной. Каждая крупица камня, каждый отблеск руды на полночной горе составляет для него целый мир. Одной борьбы за вершину достаточно, чтобы заполнить сердце человека. Сизифа следует представлять себе счастливым.
Сверхмодерн: синтез экзистенциализма и марксизма
Фактически, здесь у Камю дано некое кредо атеистического экзистенциализма. Да, абсурдно, что мы родились, абсурдно, что мы умрем. Но вдруг, назло судьбе, в человека вселяется «бес» Лорки («Теория и игра беса»).
Он бросает вызов абсурду, «концентрационной Вселенной», в которую он «заброшен», и этот вызов дает ему некий суррогат счастья и осмысленности. Надо сказать две вещи: проблема человека все же радикально иная, чем проблема Сизифа. Сизиф обречен на вечное возвращение , в то время, как человек может воспринимать свои страдания и тяготы как временное неудобство . Коме того, такое вечное возвращение элиминирует вопрос о развитии, в то время, как человек может осмыслять свое Бытие как часть Вселенского процесса восхождения форм: от кварков — к адронам, ядрам, молекулам, кристаллам, Звездам, планетам, жизни — к ноосфере и дальше. В этом есть экзистенциальный смысл Гегелевской диалектики. Мы не можем осмыслить человека исходя из него самого. Но мы можем придать Бытию человека смысл (смысл есть к чему , для чего : смысл жизни, смысл Истории) в Истории. Той самой, которая, по Анри Барбюсу, «выкликает нас по именам». Поэтому неправильным я считаю интерпретацию Камю Сизифа как пролетария. Пролетарий — это не Красный Сизиф . Пролетарий, или человек восходящий — это тот, кто преодолевает любой рок , не обживает его, а преодолевает, становится над ним, как преодолел он закон земного притяжения, как символически, обрядово, преодолел он смерть, и он же хочет теперь преодолеть вселенский рок второго закона термодинамики. Вселенский Красный Пролетарий — это восходящий человек, творящий все новые и новые все более сложные формы, преодолевая вселенскую энтропию. Включите «Время — Вперед!» Георгия Свиридова, и вы поймете, что «дух коммунизма» — это дух Прометея с его огнем, а не дух Сизифа.
Ничто не мешает нам вслед за Вебером, написавшим «Протестантскую этику и дух капитализма», заняться анализом «духа коммунизма». Слухи о смерти «призрака коммунизма», кажется мне, сильно преувеличены. Разумеется, «дух коммунизма» (равно как и «дух христианства», «дух фашизма»), немыслим без метафизики. Здесь неважно, что Маркс и Энгельс отвергали метафизику как антидиалектику. Гегель тоже критиковал метафизику и абстрактное мышление — и что, он не был метафизиком и не мыслил абстрактно? Сравнение метафизики христианства и, так скажем, Красной Метафизики встречаем в книге «Исав и Иаков» С. Кургиняна:
- Первое . Есть единая высшая инстанция – Творец.
- Второе . Это – благая инстанция.
- Третье . В своем благом промысле эта инстанция создала человека как «венец Творения».
- Четвертое . Создав его как «венец Творения», инстанция наделила созданное своими потенциалами – творчеством и неотделимой от оного свободой воли.
- Пятое . Даровав свободу воли как высшее благо, инстанция не могла не дать человеку права любого использования этого блага.
- Шестое . Чтобы не играть в поддавки (а какая там свобода воли при игре в поддавки!), высшая благая инстанция даже дала некие прерогативы злу, чтобы оно могло отменить поддавки через «институт искушения».
- Седьмое . На самом деле институт искушения – это вторичная, жалкая и подражательная инстанция. Дьявол – обезьяна Господа, и не более.
- Восьмое . Искушение состоялось. Человек, наделенный свободой воли (как благом!), пал, и возникло повреждение (смерть, зло и так далее).
Тем самым зло – это отходы производства блага, не более того.
- Девятое . Повреждение исправимо. И будет исправлено.
- Десятое . Человек будет участвовать в этом исправлении.
- Одиннадцатое . После исправления повреждения те, кто в этом исправлении участвовал, получат даже больше, чем имели до повреждения.
- Двенадцатое. Тем самым даже во зле (повреждении) есть благо. Есть благой смысл в Истории как накоплении воли к исправлению повреждения. Высшая инстанция непогрешима в своем – провиденциально благом – промысле.
Теперь сравним эту, не единственную, но преобладающую в монотеизме, метафизическую модель, ту, которую я назвал либеральной, со светской метафизикой Маркса. Для вящей внятности сравнения вновь назовем двенадцать метафизических (теперь уже светско-метафизических) принципов.
- Первое . Высшая инстанция – Огонь Творчества.
- Второе . Творчество – это благо. Высшая инстанция носит благой характер.
- Третье . Благом обладает человек. Из всего живого он и только он наделен творческой способностью.
- Четвертое . Наращивание творческой способности (то есть блага) взыскует истории.
- Пятое . История амбивалентна. Обретя ее как благо (способ наращивания творческой способности), человек ее же обретает как зло (отчуждение этой обретенной способности).
Чем больше блага создает история, тем больше она же создает зла, этого самого отчуждения.
- Шестое . Нет блага без зла, но зло служит благу, а не наоборот. Творчество преодолевает отчуждение. Отчуждение – это повреждение. Творчество – то, что искупает повреждение. Оно – благая суть того, что повреждено.
- Седьмое . Творчество и Разум как его генератор выше отчуждения и могут его преодолеть («снять»).
- Восьмое . Отчуждение – отходы производства, имя коему творчество. Так, а не наоборот!
- Девятое . Творчество останется и после снятия повреждения. Оно возгорится, а не погаснет.
- Десятое . Спасение – это «творчество минус отчуждение». Спасение возможно, но не предопределено. Все – в руках человека и человечества.
- Одиннадцатое . То, что будет после избавления от отчуждения, неизмеримо выше того, что было до отчуждения. Первобытный коммунизм – ничто перед коммунизмом подлинным.
- Двенадцатое . Тем самым даже во зле (повреждении) есть благо. История может спасти и должна спасти. Нет спасения иного, нежели на крестном пути истории. В истории накапливается благой смысл, воля к исправлению повреждения. История блага по сути своей, хотя и амбивалентна.
Сущность Красной метафизики как нельзя более емко передана в стихотворении П.Ф. Якубовича, поэта-народовольца:
«Я знаю — на костях погибших поколений
Любви и счастья прекрасный цвет взойдет;, Кровь жаркая борцов и слезы их мучений, Лишь почву умягчат, чтоб дать роскошный плод., Из груды их крестов создастся ряд ступеней,, Ведущих род людской к высоким небесам:, Свершится дивный сон и светлых райских сеней, Достигнет человек и богом станет сам., О, как горит звезда неведомого счастья,, Как даль грядущего красна и широка,, Что значит перед ней — весь этот мрак ненастья,, Всех этих мук и слез безумные века», То же самое читаем в пьесе «К звездам» Даниила Андреева:
«Надо идти вперед. Земля — это воск в руках человека. Надо мять, давить — творить новые формы… Если встретится стена — ее надо разрушить. Если встретится гора — ее надо срыть. Если встретится пропасть — ее надо перелететь. Если нет крыльев — их надо сделать! Если земля будет расступаться под ногами, нужно скрепить ее — железом. Если она начнет распадаться на части, нужно слить ее — огнем. Если небо станет валиться на головы, надо протянуть руки и отбросить его. Но надо идти вперед, пока светит солнце. Оно погаснет? Тогда нужно зажечь новое. И пока оно будет гореть, всегда и вечно,— надо идти вперед.
Коллективизм и индивидуализм, Для коммунизма характерен
Рассмотрим цитаты авторов, размышлявших на тему индивидуализма и коллективизма. Их собственные слова, часто, не нуждаются в комментариях.
Александр Богданов («Новый мир») пишет:
«Воплощая в себе раздробленный, противоречивый опыт, индивидуалистическое сознание необходимо становится жертвою «проклятых вопросов». Это те безнадежно-бесплодные вопросы, на которые вот уже столько веков «глупец ожидает ответа». Что я такое? – спрашивает он, — и что этот мир? Откуда все это? Зачем? Почему столько зла в мире? И т.д., до бесконечности. Присмотритесь к этим вопросам, и вам станет ясно, что это — вопросы раздробленного человека. Именно их должны были задавать себе разъединенные органы одного организма, если бы продолжали жить и могли спрашивать»
«…Итак, что же такое человек? Ответом на этот вопрос служит вся обрисованная картина развития… Признаем ли мы человеком существо эмбрионально-простое, стихийное, чуждое развития? Мне кажется, нет… Признаем ли мы человеком существо неполное, часть, оторванную от своего целого, дисгармонически развивающуюся? Мне кажется, нет… Но если человеком мы признаем существо развитое, а не эмбриональное, целостное, а не дробное, то наш вывод будет такой: Человек еще не пришел, но он близко, и его силуэт ясно вырисовывается на горизонте»
Эммануэль Мунье, французский философ-персоналист, оппонировал Сартру, для которого подлинная экзистенциальная коммуникация между людьми была невозможна (человеческая экзистенция — герметически заскнута).
Сартр — вершина атеистического экзистенциализма — странный феномен. Будучи выходцем отнюдь не из бедной семьи, он был убежденным социалистом. Являясь радикальным индивидуалистом («Ад — это другие»), он, тем не менее, был поглощен идеей синтеза экзистенциализма и марксизма (привнести в марксизм духовное измерение), в связи с чем и написал книгу «Критика диалектического разума». Эта его затея, в целом, не удалась. Надо сказать, что нарождавшийся постмодерн и общество Зрелища сильно вредили борьбе Сартра. Революция эпохи Модерна с её великими Текстами, идеологическими спорами, в которых полировались до блеска программные тезисы, с гильотинами, расстрелами и ссылками ушла в прошлое. На смену её пришел постмодернистский спектакль, первой ласточкой которого были события 1968 года в Париже. Сартр пытался, мне кажется, как-то выскочить из ловушки спектакля, поэтому и отказался от Нобелевской Премии. Но чрезмерная его слава, обласканность вниманием, все же делали его каким-то несерьезным, игрушечнымпротивником строя. Во всяком случае, именно впечатление чего-то неподлинного, бутафорского остается после довольно аутентичного фильма «Сартр. Годы страстей».
Однако, мы отвлеклись. Э. Мунье пишет важное:
- «Параноик есть существо, для которого субстанция мира обеднена и самосознание которого одновременно болезненно расширенно. Обедненное сознание, которое он имеет о мире, создает у него ощущение, что всякий, кто участвует в бытии, занимает в нем его место. Другой поэтому представляется ему по большей части в аспекте угрозы и возможной агрессии. Все, что окружает его, касается его и подкарауливает его. Мир — это мир угрозы и концентрированной злобы, ранимым центром которого является он сам…. Он, как больная точка тела, страдает уже при прикосновении и приближении, как будто бы для него вообще нет больше удобной области, которая является нашей основой в мире. Аналогично и Сартр отказывается от той возможности, что бытие-для-другого можно трактовать как-то иначе чем нападение, отчуждение собственного и порабощение личности»
- Рассматривая проблему «бытия-с-другим», мы сталкиваемся с тем же самым внутренним разладом, свойственным существованию, с каким мы уже имели дело, когда речь шла о фундаментальном конституировании бытия, как если бы существование было не в состоянии поддерживать творческое взаимодействие между различными своими проявлениями. Здесь, как нигде, поражение экзистенциализма представляется неизбежным. «Бытие-для-себя» в своей одинокой жизни постоянно окружено «бытием-в-себе», находится в нем, как в ловушке: когда оно хочет, ему удается, воспользовавшись свободой, одержать победу, но победа эта, хотя и оказывается реальной, тем не менее всегда частична и ненадежна. В тот момент, когда одно «для-себя» поворачивается к другому «для-себя» — одна личность поворачивается к другой личности, — можно надеяться ( христианская точка зрения ) на то, что с существованием случится что-то чудесное, и этим чудесным будет экзистенциальная встреча с другим человеком, что существованию удастся одержать победу над инертным «в-себе». Ничего подобного! «Для-себя», встречающее другое «для-себя», самим своим взглядом превращает его в «бытие-в-себе» . Говоря более понятным языком, согласно Сартру, я не могу иметь дело с другим человеком, не превращая его в нечто застывшее, не лишая его собственного мира и не блокируя его свободы, словом, не превращая его, как бы я тому ни противился, в объект. Легко представить себе всю цепь этих превращений, если вспомнить, как под посторонним взглядом тушуются застенчивые влюбленные. Это и есть ад, когда люди в присутствии других цепенеют, превращаясь в объекты: посмотрите пьесу Сартра «За запертой дверью», и вы поймете, что стесненность и ад весьма напоминают друг друга.
Подробнее о персонализме Э. Мунье и о важном различении личности и индивида я напишу в следующем разделе.
Третий автор, к цитированию которого я прибегну — Антуан де Сент-Экзюпери («Повесть о военном летчике»):
- Гуманизм проповедовал Человека. Но когда речь заходит о Человеке, наш язык становится недостаточным. Человек — это нечто иное, чем люди. О соборе нельзя сказать ничего существенного, если говорить только о камнях. О Человеке нельзя сказать ничего существенного, если пытаться определить его только свойствами людей. Поэтому Гуманизм заведомо шел по пути, который заводил его в тупик. Гуманизм пытался вывести понятие Человека с помощью логических и моральных аргументов и таким образом перенести его в сознание людей.
- Тому, у кого нет чувства родины, нельзя внушить его никаким языком. Создать в себе Сущность , которую ты называешь своей, можно только при помощи действий. Сущность принадлежит не к области языка, а к области действия. Наш Гуманизм пренебрегал действиями. Его попытки потерпели неудачу… Самое сложное действие получило название. И название это — жертва… Жертва не означает ни безвозвратного отчуждения чего то своего, ни искупления. Прежде всего это действие. Это отдача себя Сущности, от которой ты считаешь себя неотделимым. Только тот поймет, что такое имение, кто пожертвует ему частью себя, кто будет бороться ради его спасения и трудиться, чтобы сделать его лучше. Тогда он обретает любовь к имению. Имение это не сумма доходов — думать так было бы ошибкой. Оно — сумма принесенных даров… Пока моя духовная культура опиралась на Бога, она могла спасти это понятие жертвы, которое создавало Бога в сердце человека. Гуманизм пренебрегает важнейшей ролью жертвы. Он вознамерился сберечь Человека с помощью слов, а не действий… Чтобы спасти образ Человека, видимый через людей, Гуманизм располагал теперь всего лишь тем же словом «Человек», украшенным заглавной буквой. Мы рисковали скатиться по опасному склону и в один прекрасный день подменить Человека некой средней личностью или совокупностью людей. Мы рисковали подменить наш собор суммой камней… И понемногу мы растеряли наше наследие… Вместо того чтобы утверждать права Человека в личности, мы заговорили о правах Коллектива. Незаметно у нас появилась мораль Коллектива, которая пренебрегает Человеком. Эта мораль может объяснить, почему личность должна жертвовать собой ради Общества. Но она не может объяснить, не прибегая к словесным ухищрениям, почему Общность должна жертвовать собой ради одного человека. Почему справедливо, чтобы тысячи людей приняли смерть ради спасения одного осужденного невинно. Мы еще вспоминаем об этом принципе, но мало помалу забываем его. А между тем именно в этом принципе, в корне отличающем нас от муравьев муравейника, прежде всего и состоит наше величие… Мы скатились — за неимением плодотворного метода — от Человечества, опиравшегося на Человека, к этому муравейнику, опирающемуся на сумму личностей… Что могли мы противопоставить культу Государства или культу Массы? Во что превратился наш величественный образ Человека, порожденного Богом? Его уже почти невозможно распознать сквозь слова, потерявшие смысл… Постепенно, забывая о Человеке, мы ограничили нашу мораль проблемами отдельной личности. Мы стали требовать от каждого, чтобы он не ущемлял другого. От каждого камня, чтобы он не ущемлял другой камень. Разумеется, они не наносят друг другу ущерба, когда в беспорядке валяются в поле. Но они наносят ущерб собору, который они могли бы составить и который взамен наделил бы смыслом каждый из них.
- Что же касается Любви к ближнему, то мы даже не осмеливались больше ее проповедовать. В былые времена Любовью к ближнему называлась жертва, создававшая какую нибудь Сущность , если эта жертва прославляла Бога через его человеческий образ.
- Так мы потеряли Человека. А потеряв Человека, мы лишили тепла то самое братство, которое проповедовала наша духовная культура, потому что братьями можно быть только в чем то и нельзя быть братьями вообще. Делиться с кем то еще не значит быть ему братом. Братство возникает только в самопожертвовании. Оно возникает в общем даре чему то более великому, чем мы сами . Но, подменив этот корень всякого истинного бытия бесплодным измельчанием, мы свели наше братство просто к взаимной терпимости… Мы перестали давать. Но если я готов дать лишь самому себе, я ничего не получаю, потому что не создаю ничего такого, от чего я неотделим, а значит, я — ничто . И если от меня потребуют, чтобы я умер ради каких то выгод, я откажусь умирать. Выгода прежде всего повелевает жить. Какой порыв любви окупит мою смерть? Умирают за дом, а не за вещи и стены. Умирают за собор — не за камни. Умирают за народ — не за толпу. Умирают из любви к Человеку, если он краеугольный камень Общности. Умирают только за то, ради чего стоит жить.
- Не умея строить, мы были вынуждены оставить груду камней на поле и говорить о Коллективе с опаской, не решаясь уточнять, о чем же мы говорим, потому что в действительности мы говорили о чем то несуществующем. Слово «коллектив» лишено смысла до тех пор, пока Коллектив не связывается чем то. Сумма не есть Сущность .
- Моя любовь к своим основана на том, что я готов отдать за них свою кровь , подобно тому как любовь матери основана на том, что она отдает свое молоко. В этом и заключается тайна. Чтобы положить основание любви, надо начать с жертвы . Потом любовь может вдохновить на новые жертвы, и они приведут к новым победам. Человек всегда должен сделать первый шаг. Прежде чем существовать, он должен родиться.
- Я буду сражаться за приоритет Человека над отдельной личностью, как общего над частным… Я верую, что культ Общего возвышает и связывает воедино духовные богатства отдельных личностей и основывает единственно подлинную гармонию, которая есть гармония жизни. Дерево исполнено гармонии, хотя его корни отличаются от ветвей… Я верую, что культ отдельных личностей влечет за собой только смерть, потому что он хочет основать гармонию на сходстве. Он подменяет единство Сущности тождеством ее частей. И он разрушает собор, чтобы выложить в ряд составляющие его камни. Поэтому я буду сражаться со всяким, кто станет провозглашать превосходство какого то одного обычая над другими обычаями, какого то одного народа над другими народами, одной расы над другими расами, какой то одной мысли над другими мыслями… Я верую, что приоритет Человека кладет основание единственному имеющему смысл Равенству и единственной имеющей смысл Свободе. Я верую в равенство прав Человека в каждой личности. И я верую, что Свобода — это Свобода восхождения Человека . Равенство не есть тождество. Свобода не есть возвеличивание личности в ущерб Человеку. Я буду сражаться со всяким, кто захочет подчинить свободу Человека одной личности или массе личностей… Я верую, что моя духовная культура именует Любовью к ближнему добровольную жертву, приносимую Человеку, чтобы утвердить его царство. Любовь к ближнему есть дар Человеку, приносимый через посредственность личности. Она основывает Человека. Я буду сражаться со всяким, кто, утверждая, что моя любовь к ближнему воздает честь посредственности, станет отрицать Человека и тем самым заключит личность в тюрьму безысходной посредственности.
Здесь затронуты важнейшие темы: судьба гуманизма, восхождение человека, любовь и жертва. Заметим: экзистенциализм проанализировал все, что связано с ужасом сознавания смерти. Его лейтмотивом было нескончаемое «нытье» и отчаяние, порожденные этим страхом. Но что он не рассматривал?
Феномен героизма . Человек при определенных условиях может стать над Смертью. Добровольное самопожертвование, столь массовое, например, во время Великой Отечественной Войны — это то, что не может не поражать. Человек может поставить нечто Высшее над Смертью. Сталин, говорят, высказался по поводу произведения М. Горького «Девушка и Смерть»: «Эта штука посильнее Фауста Гете: здесь Любовь побеждает Смерть». Посильнее или нет — это вопрос более чем спорный, но смысл высказывания понятен. Страх смерти — по существу биологический, это голос эгоистического гена (Р. Докинз) в нас. Не мы боимся смерти — а наш ген. Любовь же к Высшему — существенно человеческий феномен.
Для атеистического экзистенциалиста нет ничего над Смертью. Некоторые из них (Хайдеггер), влюбляются в Тьму, а нацисты и вовсе стали вестниками Смерти: Зло себя назвало открыто и пошло в свой черный поход, напоминающий поход инфернальных Гогов и Магогов. Великая Отечественная Война, есть, поэтому, событие метафизическое, война Любви и Смерти, Красного и Черного.
Нечто похожее, а именно, пикантные отношения со Смертью, мы видим и в постмодернизме. Всегда до этого Любовь считалась чем-то, что дарует благо Жизни (Шопенгауэр, например, считал, что любовь мужчины и женщины есть проявление воли к жизни их еще не родившегося ребенка).
Творчество Батая, смакование Смерти в современном искусстве, танатография Эроса — что это? Деконструкция всех смысловых структур… Почему-то (я не могу это доказать точно, но у меня есть такое ощущение) мне кажется, что от невозможности поставить что-то выше Смерти и постоянного экзистенциального кризиса западное сознание постепенно переходит к любви к смерти . Ни один фильм не может быть снят смакования зрелища смерти. Это есть, кажется, некое движение навстречу древнеримскому Абсолюту, или Тьме, являющейся безосновной основой Сущего, но лишенной всякой обусловленности, всяких структур, стесняющих свободу. Это есть стремление вырваться за пределы Сущего, ощущаемого как «концентрационная Вселенная», и это стремление есть стремление к Ничто, чье ничтожение и отталкивает Сущее.
Французский персонализм (Э. Мунье)
Мы начинали с того, что провозгласили наш подход к определению экзистенциализма диалектическим. Он основан на той общепринятой точке зрения, что именно духовный кризис, порожденный смертью Бога в Модерне и другими факторами и вызвал ответ в виде экзистенциализма. Экзистенциальные искания были всегда (что такое религиозные обряды погребения как не символическое преодоление экзистенциальной катастрофичности смерти?).
Но экзистенциализм стал возможен только тогда, когда Бог начал умирать в сердцах людей. То же самое верно и для традиции: традиционализм стал возможен только после крушения парадигмы Традиции. Внутри же парадигмы Традиции не было и не могло быть традиционализма. Аналогично, экзистенциальные искания обостряются в так называемые периоды экзистенциальной бездомности (М. Бубер).
Кризис смыслов Модерна делал человека все более экзистенциально бездомным, это и обуславливало, наверное, часто встречающееся в эту эпоху восприятие мира как неуютного, недружественного, небезопасного, враждебного. Наверное, все сказаное не до конца справедливо, особенно для религиозных экзистенциалистов. Но даже эти, верующие экзистенциалисты не жили ведь в сферическом вакууме: верующий Паскаль боролся с либертинизмом и вообще всем духом Модерна.
А что, если Сверхмодерн — это Модерн в «снятом виде»? Что, если для того, чтобы сделать шаг наверх от умершего Модерна, нам необходимо «снять» экзистенциальный кризис Модерна? Постмодерн его не «снимает» кризис, не строит новое, а «обживается» на руинах смыслов. Он влюбляется в смерть. А мы должны понять, есть ли что-то над нею.
Посмотрим, как эти проблемы пытался решить Э. Мунье с его персонализмом (кстати, к нему был близок Н. Бердяев).
Я приведу цитаты из вводной статьи И.С. Вдовиной к книге «Манифест Персонализма». Статья очень удачная, и дает для понимания персонализма не меньше, чем даже чтение нескольких книг Мунье:
Французский персонализм — одно из ведущих философских течений современности; вместе с феноменологией, экзистенциализмом и неотомизмом он составил целую эпоху в интеллектуальной жизни Франции первой половины XX в. Датой рождения французского персонализма считается октябрь 1932 г. — время выхода в свет первого номера журнала «Esprit» («Дух»).
Основоположник и главный теоретик французского персонализма — Эммануэль Мунье (1905-1950), профессиональный философ, католик по вероисповеданию; ему удалось сплотить вокруг «Esprit» творческую молодежь — философов, социологов, публицистов, литераторов, литературных и художественных критиков самых разных ориентации, озабоченных судьбой человека и цивилизации, которая в начале века переживала глубокий экономический, политичский и духовный кризис .
Э. Мунье — автор работ «Персоналистская и общностная революция» (1935), «От собственности капиталистической к собственности человеческой» (1936), «Манифест персонализма» (1936), «Персонализм и христианство» (1939), «Трактат о характере» (1946), «Введение в экзистенциализм» (1947), «Персонализм» (1949; рус.пер. 1992), «Надежда отчаявшихся» (1953; рус пер. 1995); в 1960-1961 гг. во Франции было опубликовано четырехтомное собрание сочинений Мунье, куда вошли все значительные работы мыслителя’. Ближайшие соратники и единомышленники Мунье — Ж. Лакруа, М. Недонсель, Г. Мадинье, П. Фресс, П. Рикёр и др.
Центральной проблемой философии персонализма является
Заметьте, капитализм (а персонализм имел антибуржуазный характер) не ставит себе никаких целей, касающихся человека. Строго говоря, было бы лучше всего заменить «этих лишних» роботами, которые не будут жаловаться в профсоюз. Человек не имеет неотчуждаемого права на пищу и кров, он имеет право опустить в урну свой бюллетень и умереть с голоду — если рынок его отверг. Конечно, это огрубление, но во многих местах мира это именно так и по сей день. И будет хуже, еще и еще хуже. В персонализме же (как и вообще в коммунизме ) человек возвращается в фокус внимания. Коммунизм неотделим от идеи развития человека, которая была отвергнута в Модерне. В коммунизме социальная система не создается для существующего человека как данности: социальная система создается с тем, чтобы этот существующий человек пошел наверх. Это, конечно, гладко и красиво на бумаге. На практике же, взваливая на себя подобную ношу и обязательства, коммунисты часто проваливались: поднимать человека наверх в тысячу раз труднее, чем толкать его вниз, в потребление и интеллектуальный регресс.
Зарождение понятия личности французские персоналисты связывали с христианством, которое, как отмечал и Мунье, первым заговорило о множественности человеческих душ и призвало каждую из них внутренне приобщиться к божественному. «Глубинный смысл человеческого существования состоит… в том, чтобы переменить «тайну своей души», чтобы принять в нее Царство Божие и воплотить его на Земле ». Идея о воплощении Царства Божия на Земле стала программной в философии французского персонализма. В отличие от традиционного христианства, нацеливавшего человека главным образом на созерцательную жизнь, Мунье и его соратники сделали акцент на жизни активной, придав идее о воплощении божественных ценностей на Земле вполне конкретный вид.
Царство Божие на Земле? Это —
Французский персонализм родился как реакция левых католических мыслителей на противоречия и проблемы, которые поставило перед индивидом общественное развитие в начале XX в. В основе всей проблематики персонализма во Франции лежит вопрос о «кризисе человека» , который сторонники этого течения пытаются осмыслить как следствие общего кризиса буржуазной цивилизации. В буржуазном обществе человек, по словам Муиье, полностью подчинен производству, конкретные люди заменены юридическими абстракциями, а сама капиталистическая цивилизация представляет собой «режим безответственности и эгоизма»
В 30-е годы проблема «кризиса человека» в персонализме понимается прежде всего как кризис деятельных способностей индивида, вызванный его участием в капиталистическом производстве, и как упадок духовности, явившийся следствием буржуазного образа жизни и дехристианизации широких народных масс; французские персоналисты вместе с тем озабочены слиянием христианства с «буржуазным беспорядком». В одном из первых номеров «Esprit» (март 1933г.) Э. Мунье и Ж. Маритен объявляли о намерении сторонников «личностной философии» отделить христианство от буржуазного мира, «вырвать Евангелие из рук буржуазии» (Ж. Маритен — ведущий теоретик неотомизма, в 30-х годах вместе с Мунье принимавший участие в разработке идей персонализма, впоследствии будет упрекать Мунье в том, что тот слишком далеко отошел от христианства).
Теоретики персонализма ставили задачу разработать новую концепцию христианства, которая могла бы служить духовной опорой в деле преобразования буржуазной цивилизации на гуманистических основах.
Труд для философов-персоналистов есть прежде всего творчество, в процессе которого человек выступает законодательным, целеполагающим существом («труд осуществляется ради творчества» ); создавая тот или иной продукт, человек не только выражает себя, но и определенным образом завершает себя («труд есть средство завершения человека как личности») и конституирует собственное Я («труд возвращает индивида к самому себе»); в труде человек осуществляет себя не только как мыслящее и действующее существо, но и как бытие чувственное, эмоциональное («труд сопровождается радостью…»); дисциплина труда, его конкретный порядок и строгая определенность организуют человека, давая ему чувство уверенности и вселяя веру в самого себя. Одним из наиболее существенных моментов трудовой деятельности является опыт творческой самоотверженности: человек, творчески осуществляя себя в труде, отрекается от самого себя и делает это не столько ради производимого им продукта, сколько ради другого человека, которому он посвящает вой труд. Таким образом, труд выступает изначальным условием подлинно человеческого общения и инструментом воспитания: дух товарищества и любви, господствующий в процессе труда, — вот та основа, на которой создается истинно человеческое, личностное сообщество.
Слово «революция», бывшее в 30-х годах символом борьбы за «светлое будущее», получает в персонализме своеобразную трактовку. Мунье уверен, что коренное преобразование жизни людей невозможно без их общих усилий и прежде всего без их духовного возрождения, без духовной революции. При этом он считал, что любые экономические и социальные перемены, идущие сверху и осуществляемые небольшой кучкой людей, не в состоянии привести к слому изжившую себя систему; они непременно завершатся только перераспределением богатств. По его убеждению, революция должна быть одновременно и духовной и экономической: «…духовная революция будет экономической или ее не будет вовсе. Экономическая революция будет духовной или она не будет никакой» .
Человеческое чувство общности Мунье… относит к фундаментальным характеристикам личности, ее первичному опыту. «Изначальный опыт личности — это опыт второй личности»; «ты», а в нем и «мы» предшествует личности или, точнее, сопровождают Я на всем его жизненном пути. Обретая внутреннюю жизнь, личность предстает нацеленной на мир и устремленной к другим личностям; идя по пути универсализации, она смешивается с ними, поскольку «другой» («другие») не только не ограничивает личность, но обусловливает ее существование и восхождение. «Личность существует только в движении к другому, познает себя только через другого, обретает себя только в другом».
Персоналистское сообщество, контуры которого пыталась очертить «личностная философия», должно основываться на серии своеобразных актов, которым, как считает Мунье, нет аналогий в Универсуме: умение личности выйти за собственные пределы и открыться «другому», понять его и в поисках взаимного согласия стать на его точку зрения; способность взять на себя судьбу «другого», разделить с ним его тяготы и радость, быть великодушным, не рассчитывая на взаимность, хранить созидающую верность «другому» на протяжении всего жизненного пути. В итоге Мунье следующим образом формулирует кредо личностного существования: «я существую только в той мере, в какой я существую для другого, и в пределе «быть» означает любить. Эта истина и есть персонализм…». Под любовью философы-персоналисты понимают не природное (сексуальное, родственное) отношение, а отношение сверхприродное, новую форму бытия: она даруется человеку по ту сторону его естества, требуя от него возможно полной самореализации в свободе. Акт любви, по Мунье, это неопровержимое cogito человека: «Я люблю, значит, я существую, и жизнь стоит того, чтобы ее прожить»
Личная судьба многих сторонников французского персонализма служит примером бескомпромиссного и ответственного — «вовлеченного» — существования. В годы оккупации Франции большое число корреспондентов и руководящих работников «Esprit» боролось в рядах Сопротивления (А. Ульман, П.-Э. Тушар, Э. Юмо, Ж.М. Суту, К. Бурдэ и др.); один из основоположников персонализма полковник французской армии А. Делеаж был убит на войне; П.-Л. Ландсберг и Ж. Госсэ погибли в фашистских концлагерях; через гестаповские застенки прошли Ф. Гогель, М. Шастэн, П.-А. Симон. Э. Мунье по состоянию здоровья не мог с оружием в руках участвовать в борьбе с фашизмом — проведя несколько месяцев в тюрьме в связи с осуждением и закрытием журнала «Esprit», он до освобождения Франции вынужден был скрываться под чужим именем. Из рядов содружества мыслителей, сплоченных вокруг «Esprit», вышли известные философы (Э. Мунье, Ж. Лакруа, П. Рикёр), психологи (П. Фрэсс), экономисты (Ф. Перу), деятели киноискусства (А. Базен, Р. Леенхардт) и другие представители науки и культуры, чье творчество проникнуто идеалами гуманизма, справедливости, человечности.
Национальные корни русского коммунизма

В поисках Сверхмодерна мы вынуждены обратиться к поиску национальных корней русского коммунизма. Признаться, изучая немного русскую философию, я извлек для себя вывод не только о не случайности, но и о неизбежности русского коммунизма. Это было предопределено всей русской историей и духовными исканиями русских религиозных деятелей, поэтов, писателей и философов. Все знают замечательную книгу Н. Бердяева «Истоки и смысл русского коммунизма». Там, при минимуме ругательств, вопрос раскрыт в целом превосходно. Я же напишу краткие примечания к цитатам из двухтомника Василия Зеньковского «История Русской Философии». Начнем:
Русская философия не теоцентрична (хотя в значительной части своих представителей глубоко и существенно религиозна), не космоцентрична (хотя вопросы натур-философии очень рано привлекали к себе внимание русских философов), — она больше всего занята темой о человеке, о его судьбе и путях, о смысле и целях истории . Прежде всего это сказывается в том, насколько всюду доминирует (даже в отвлеченных проблемах) моральная установка : здесь лежит один из самых действенных и творческих истоков русского философствования. Тот «панморализм», который в своих философских сочинениях выразил с исключительной силой Лев Толстой, — с известным правом, с известными ограничениями может быть найден почти у всех русских мыслителей, — даже у тех, у которых нет произведений, прямым образом посвященных вопросам морали (например, у Киреевского). С этим связано и напряженное внимание к социальной проблеме, но ярче всего это обнаруживается в чрезвычайном, решающем внимании к проблемам историософии. Русская мысль сплошь историософична, она постоянно обращена к вопросам о «смысле» истории, конце истории и т. п. Эсхатологические концепции XVI-го века перекликаются с утопиями XIX-го века, с историософскими размышлениями самых различных мыслителей.
В антропоцентризме мысли есть один очень глубокий мотив — невозможность «разделять» теоретическую и практическую сферу. Очень удачно выразил это упомянутый выше Н. К. Михайловский, когда обращал внимание на своеобразие русского слова «правда». «Всякий раз, когда мне приходит в голову слово „правда“, — писал он, — я не могу не восхищаться его поразительной внутренней красотой… Кажется, только по-русски истина и справедливость называются одним и тем же словом и как бы сливаются в одно великое целое. Правда в этом огромном смысле слова — всегда составляла цель моих исканий…» В неразрывности теории и практики, отвлеченной мысли и жизни, иначе говоря, в идеале «целостности» заключается, действительно, одно из главных вдохновений русской философской мысли. Русские философы, за редкими исключениями, ищут именно целостности, синтетического единства всех сторон реальности и всех движений человеческого духа. Именно в историческом бытии — более, чем при изучении природы или в чистых понятиях отвлеченной мысли, — лозунг «целостности» неустраним и нужен.
Итак, мы видим важное: духовные искания русских мыслителей антропоцентричны, но, при все при этом, они еще и историософичны. Это значит, что человеческое бытие осмысляется Историей. В то же время характерен синкретизм практической и теоретической установки мышления. Теоретическая или практическая установка мышления выбирается человеком в зависимости от того, какой тип задач он собирается решать — теоретический или практический. Слитность же этих установок означает особую, « проективную » установку: познать, чтобы изменить, придумать, чтобы воплотить . В конце-концов это превращается в хилиастические чаяния. Надо сказать, что, в отличие от христианского мировоззрения, где все же был изначальный рай и где в конце истории обещано снятие времени, светское мировоззрение идеи изначального рая не содержит. Все традиции, в которых существует либо Золотой Век, либо изначальный рай, либо Примордиальная Традиция как утерянное благо — привиты против Красной метафизики. Поэтому, в частности, именно в эпоху секуляризации «хилиастический соблазн» оказался столь велик для светского русского человека. В конце истории, надо отметить, в коммунизме время не будет снято: Красное время — спиралевидное . Оно одновременно содержит в себе и элемент развития, и эсхатологические чаяния преодоления отчуждения в финале витка спирали. Но новый виток сверхистории будет именно Новым, а не Иным: коммунизм первобытный есть ничто в сравнении с коммунизмом грядущим («с железной необходимостью» — эту добавку пора оставить в XIX веке механистического детерминизма).
На Западе христианство распространялось из Рима, который не был отделен от народов Европы никакими перегородками, а был наоборот очень тесно связан с ними, — тогда как в Россию христианство пришло из далекой и чужой страны. Рим был заботливой матерью для народов Запада, — и сверх того церковное единство Запада находило и свое выражение и существенное дополнение в том, что один и тот же латинский язык был и церковно и культурно общим для всего Запада, в то же время непосредственно связывая его с античностью. Античная культура, по мере ее усвоения, ощущалась на Западе, как «своя».
Все было иначе в России. Россия политически жила совсем отдельной от Византии жизнью, — а церковно она была в отношении зависимости от нее. Русская Церковь стала очень рано поэтому стремиться к каноническому освобождению от греческой Церкви, — а после падения Константинополя, чем Русь была глубоко потрясена, это отталкивание от Византии лишь усилилось. Когда Иоанн IV говорил папскому легату: «наша вера христианская, а не греческая», — он точно формулировал русское церковное сознание того времени. Греческий язык не стал на Руси богослужебным языком, и эта языковая изолированность русского мира имела, конечно, громадное значение в путях русской культуры, обрекая ее заранее на достаточную «запоздалость». Впрочем, это обстоятельство до известной степени смягчалось тем, что южные и западные славяне, родственные по языку и племенному единству, переживала в указанные века расцвет духовной культуры, — поэтому Россия, благодаря связи с ними, никогда не была в полной изоляции от Запада. Однако, кроме языковой изоляции, в судьбах России имела свое влияние и вероисповедная настороженность в отношении к Западу, особенно усилившаяся после Флорентийского собора и заключенной там «унии», которую отверг русский народ. Эта настороженность, которую постоянно внедряла в Россию Византия, долго мешала русским в их духовных исканиях, сковывала свободу мысли. Не оттого ли, когда началось усиленное общение с Западом, столько русских людей попало в безоглядный плен Западу?
Здесь кратко описана ситуация, в который вынуждена была развиваться Русь и Московское Царство. Да, на Руси не было Ренессанса, средневековых университетов, столь прекрасной архитектуры, как на Западе и т.д. Не было и крестовых походов, Варфоломеевской ночи, миллиона сожженых ведьм и индульгенций, ужаса религиозных войн, рабовладения и вырезания целых народов. Много чего не было на Руси и в Московии.
Русский аскетизм восходит не к отвержению мира, не к презрению к плоти, а совсем к другому — к тому яркому видению небесной правды и красоты, которое своим сиянием делает неотразимо ясной неправду, царящую в мире, и тем зовет нас к освобождению от плена миру. В основе аскетизма лежит не негативный, а положительный момент: он есть средство и путь к преображению и освящению мира. Видение небесной правды и красоты вдохновляет к аскетизму… Отсюда становится понятным, почему так излюблен в русском церковном сознании образ «света» — свою веру народ любит называть «пресветлое Православие». Здесь корень того мотива космичности, который связывает русскую религиозность с святоотеческой: мир воспринимается, как весь озаренный и пронизанный светом Божиим. Не случайно праздник Пасхи, этого торжества света над тьмой, получил исключительное место в богослужебной жизни русской Церкви, — и верно то, что когда-то подчеркнул Гоголь, что нигде (даже на православном Востоке), этот праздник не празднуется так, как в России… Восприятие мира в лучах пасхальных переживаний лежит в самом центре русского религиозного сознания, — без этого не понять его. Обличения житейской неправды, составляющие главное содержание церковной литературы XII–XIV веков, никогда поэтому не поселяют отречения от жизни, но всегда соединяются с верой в преображение жизни силой Божьей. Как любопытны в этом отношении духовные стихи, в которых так четко выражено смиренное сознание людской греховности и в то же время светлою ожидание милости Божией! В духовном стихе «Плач земли» Господь утешает землю (которая «расплакалась» перед Господом, удрученная людскими грехами):
«Речет сам Господь сырой земле: Потерпи же ты, матушка, сыра земля, Потерпи же ты несколько времячка, сыра земля! Не придут ли рабы грешные к самому Богу С чистым покаянием? Ежели придут, прибавлю им свету вольного Царство небесное; Ежели не придут ко мне, ко Богу, Убавлю им свету вольного».
Итак, мотив Света. Мир, пронизанный светом. Трасцендентное пропитывает имманентное. Именно таким он изображен, например, на картинах Шишкина — это свого рода пантеизм. Пантеизм же как тип мировосприятия при секуляризации чреват человекобожеством («Свершится дивный сон, И светлых райских сеней Достигнет человек, И Богом станет сам»).
В пантеизме пропадает резкое противопоставление всеблагого Творца и бренного мира, выпадение в который из рая было следствием грехопадения. Если мир пропитан благой субстанцией, то, пожалуй, её можно сконденсировать в человеке и возвысить его до божественного уровня.
Вернемся еще на время к общей теме о русской религиозности — все это будет нам очень важно в дальнейшем исследовании. Прежде всего мы должны особо отметить русский «максимализм» , проходящий красной чертой через всю историю духовной жизни в России. Несомненно, этот максимализм сам по себе не религиозного происхождения, — он связан с «природными» особенностями русской души, создававшимися на всем протяжении русской истории. Безмерность русских пространств, отсутствие внутри России высоких гор, все «геополитических» влияния определяли эти особенности русской души. Но будучи «природными» и определяя стиль и формы духовной жизни, эти особенности русской души получили для себя особое подкрепление в некоторых основных чертах христианства, с которыми они глубоко срослись. Я имею в виду мотив «целостности», который придает христианству оттенок радикализма; он научает бояться всякой «серединности» и умеренности, всякой теплохладности. Христианство, по самому ведь существу своему, обращено ко всему человеку, хочет обнять его всего, хочет просветить и освятить всю его душу. Конечно, этот мотив играл и играет громадную роль и в западном христианстве (как в католичестве, так и в протестантских исповеданиях), так как он связан с самой сущностью христианства. В русской же душе он получил особую силу;. антитеза «все или ничего», не сдержанная житейским благоразумием, не контролируемая вниманием к практическим результатам, оставляет душу чуждой житейской трезвости.
Но во всем этом были и есть свои соблазны. Мистический реализм, ищущий надлежащего равновесия в сочетании духовного и материального, может подпадать соблазну увидеть его там, где его нет. Здесь возможно неожиданное пленение сознания той или иной утопией — так, напр., надо понимать страстное искание церковными русскими людьми священного смысла в царской власти. Как мы еще увидим, политическая идеология в XVI и XVII веках всецело создавалась именно церковными кругами — совсем не для того, чтобы «помочь» государству, а во имя внутри церковных мотивов, во имя искания освященности исторического бытия. Поспешное усвоение священного смысла царской власти, вся эта удивительная «поэма» о «Москве — третьем Риме» — все это цветы утопизма в плане теократическом, все это росло из страстной жажды приблизиться к воплощению Царствия Божия на земле. Это был некий удивительный миф, выраставший из потребности сочетать небесное и земное, божественное и человеческое в конкретной реальности. Из глубин мистического реализма церковная мысль сразу восходила к размышлениям о тайне истории, о сокровенной и священной стороне в внешней исторической реальности …
Надо сказать, Зеньковский здесь не нейтрален. Ярый противник секуляризма (это в ХХ веке!), он был столь же отрицательно относился ко всему, в чем содержится идея преображения мира на основе христианских идеалов. Это — религиозный человек «не от мира сего», считающий социальные утопии грехом и хулой на небеса (Ленин про таких как-то обронил замечание на полях: «Боженьку ему стало жалко, сволочь»).
Всегда, однако, досаждают подобные филлипики от людей, которые на голубом глазу полагают, что в таинстве евхаристии они вкушают Кровь и Тело Христово (Толстой, например, в своей «Исповеди» пишет, что именно поэтому он отошел от официальной Церкви: не мог лицемерно делать вид, что верит в то, что противоречило его «чувству правды»).
Не этим людям от Церкви называть великие социальные утопии «наивными» — во всяком случае, они не «наивнее» религиозной веры в конкретного бога.
Но здесь было сказано важное: когда-то до церковного раскола русская церковь сама являлась проводником социального утопизма.
Русское иночество, действительно давало недосягаемые образцы духовной силы, чистоты сердца и свободы от плена миру, — и русские монастыри были средоточием духовной жизни древней России; они постоянно напоминали людям о той небесной правде, которая должна быть изнутри соединена с миром; мир же должен быть очищен и освящен, чтобы, в преображении, стать Царством Божиим. В монастырях, по народному убеждению, шла «истинная жизнь», и потому так любили русские люди «хождение по святым местам», к которым их тянула жажда приобщиться к «явленому» на земле Царству Божия) . В монастырях горел нездешний свет, от которого должна была светиться и сама земля, если бы она сбросила нарост греховности.
Мы переходим к описанию, Обратимся к описанию Зеньковским (который, между тем, постоянно сокрушается по поводу »
Начнем со следующего замечания Федорова. «В настоящее время, – пишет он, – дело заключается в том, чтобы найти, наконец, потерянный смысл жизни , понять цель, для которой существует человек, и устроить жизнь сообразно с ней. И тогда сама собой уничтожится вся путаница, вся бессмыслица современной жизни». В последних словах Федорова довольно ясно выступает оптимистическая уверенность в том, что при надлежащем понимании цели нашей жизни ее современная запутанность исчезнет «сама собой»… Так вообще верили (в возможность «исправлять» историю) в эпоху расцвета Просвещения – отзвуки которого мы у Федорова часто найдем, – так верили все защитники «прогресса». Во всем этом есть, по справедливому замечанию Бердяева,, – нечувствие силы зла в мире, вера в то, что если люди поймут, в чем правда, то зло окажется рассеявшимся… Но смысл приведенных выше слов Федорова не только в этом, но и в том ударении, которое он делает на словах, что наша задача, установив цель жизни, «устроить жизнь сообразно с ней».
Для Федорова существенно решительное противление тому, чтобы только установить правильное понимание жизни: необходимо от понимания перейти к осуществлению того, что нам открывается. Поэтому он называет свою установку— «проэктивной»: «к истории, – пишет он, – нужно относиться не «объективно», т.е. безучастно, и не «субъективно», т.е. с внутренним лишь сочувствием, а «проэктивно», т.е. превращая знание «в проект лучшего мира». Без этого, пишет он, «знание принимается за конечную цель», дело «заменяется миросозерцанием» – и пред нами чистая «идеолатрия или культ идей». Федоров ставит в упрек философам именно то, что они «мысли придают большее значение, чем действию»; о Сократе он говорит, что он «от обожания идолов перешел к обожанию идей, и это обожание в Платоне перешло в решительное отделение мысли от дела». Поэтому, по мысли Федорова, мы «присутствуем при смерти философии». «Чтобы сделаться знанием конкретным и живым, философия должна стать знанием не только того, что есть, но и того, что должно быть, т.е. она должна из пассивного умозрительного объяснения сущего стать активным проектом долженствующего быть, проектом всеобщего дела».
Мало этого. Становясь описанием того, что есть, т.е. превращая себя в созерцание мира (вместо того, чтобы быть проектом изменения сущего в идеальное ), философия (как и наука) ставит себя в рабское положение в отношении к нынешним порядкам: это есть рабская подчиненность нынешнему социальному строю . В такое же рабское отношение наука и философия неизбежно ставят себя и к природе. Федоров сурово критикует «преклонение пред всем естественным». Самая природа ищет в человеке своего «хозяина», а не только «исследователя». «Космос нуждается в разуме, – пишет Федоров, – чтобы быть космосом, а не хаосом». «Повиноваться природе для разумного существа значит управлять ею, ибо природа в разумных существах обрела себе главу и правителя». Федоров не боится всех выводов своего «проэктивного», т.е. творческого отношения и к истории, и к природе и называет его «эстетическим толкованием бытия и создания». «Наша жизнь, – тут же пишет он, – есть акт эстетического творчества». С другой стороны, по его мысли, «природу в том несовершенном виде, в каком она, по человеческому незнанию и безнравственности, и поныне пребывает, нельзя в строгом смысле даже признать произведением Бога – ибо в ней предначертания Творца частию еще не выполнены, а частию даже искажены» .
Федоров становится на точку зрения метафизического геоцентризма и антропоцентризма; он говорит о «спасении безграничной вселенной» и думает, что спасение это должно осуществиться на «такой ничтожной пылинке, как земля». Позже мы увидим основания этих построений, а пока еще остановимся на них. «Нынешняя вселенная, – пишет тут же Федоров, – стала слепою, идет к разрушению, к хаосу – потому что человек, поверив сатане, осудил себя на знание без действия – что и обратило древо знания в древо крестное».
Таким образом,, Все это может быть сведено к гносеологическому тезису:
Не будет преувеличением поэтому сказать, что у Федорова была исключительная и напряженнейшая обращенность к Царству Божию, было глубочайшее отвращение к тому, что все как-то примирились, что Царства Божия нет в мире . Эта неутолимая жажда Царства Божия, как полноты, как жизни «со всеми и для всех», не была простой идеей, но была движущей силой всей его внутренней работы, страстным горячим стимулом всех его исканий – его критики окружающей жизни, его размышлений о том, как приблизить и осуществить Царство Божие.
Острое ощущение «небратства» в мире определяет его суровое отношение к современности, ко всей истории, ибо «история, — замечает он в одном месте, — есть (в сущности) разорение природы и истребление друг друга» . Тот лее лозунг «братства», который часто встречается в наши дни, по существу своему есть ложь, ибо «свобода исполнять свои прихоти и завистливое искание равенства не могут привести к братству: только любовь приводит к братству». «Крайнее развитие личности, разделение занятий, приведшее людей к совершенной внутренней разобщенности» – такова сущность современной цивилизации, которая «пришла к тому, что все, предсказанное, как бедствие, при начале конца, – под видом революции, оппозиции, полемики, вообще борьбы – стало считаться условием прогресса». « Мир идет к концу, – тут же пишет Федоров, – а человек своей деятельностью даже способствует приближению конца».
Тупиковость эгоистического индивидуализма (и его продолжением в виде эгоизма национальных государств) была очевидной Федорову, не бывшему свидетелем ни Первой, ни Второй мировой, ни Хиросимы, ни экологических катастроф.
Будучи глубоким противником пассивности и примиренчества в отношении ко злу (к смерти), Федоров всей силой обрушивается на эту пассивность. Он считает всякий amor fati «вершиной безнравственности» и, противоставляя этой amor fati – «величайшую, безусловную ненависть к Року» – odium fati, Федоров зовет к борьбе со смертью. «Смерть, – пишет он, – есть торжество силы слепой, не нравственной», и «тот не достоин жизни и свободы, кто не возвратил жизнь тем, от коих ее получил».
Здесь мы видим корень Красной антропологической модели — представление о фундаментальной амбициозности человека, о человеке как существу трансцендирующему и преодолевающему любой Рок. В этом хула и неправда Камю, для которого пролетарий был эдаким Сизифом.
Федоров разделяет общую веру Просвещения в ценность и преображающую силу сознания,
Зеньковский ругается, свысока называя мысли Федорова «фантазиями». Это не мешает ему считать, что чудо воскресения Христа и все его чудеса являются не фантазиями, а реальностью.
Итак, Федоров является зачинателем русского космизма. Нерелигиозный русский космизм являлся своебразной попыткой придать человеческой жизни космический смысл , который перестал существовать после смерти Бога. «Папочка умер», теперь человеку предстояло стать самому своим папочкой, самому навязывать Космосу свой смысл. Ницше писал:
Можешь ли ты дать себе свое добро и свое зло и навесить на
Ужасно быть лицом к лицу с судьею и мстителем собственного закона. Так бывает брошена звезда в пустое пространство и в ледяное дыхание одиночества.
Теми же вопросами мучилось и, Неоднозначность Развития
Красная Метафизика тесно связана с пониманием Творчества (Развития) как блага. Творчество есть создание небывалого , Нового. Постмодернизм же, часто интерпретируемый как радикальный консерватизм, восславил Иное. В этом отличие духа Истории в Сверхмодерне от духа Игры в Постмодерне (последний гениально описан в романе Германа Гессе «Игра в Бисер»).
Однако, Развитие не столь простое понятие, как может показаться. Одно дело, когда вы исходите из дуалистической метафизики Света и Тьмы, Творчества и Энтропии, Добра и Зла. Тогда можно сказать, что дело Творчества, Вселенского восхождения форм — без сомнения благой процесс и нужно всячески ему способствовать. Другое дело — если вы не уверены в существовании этих онтологических реальностей, или же не уверены в том, что называть развитием — а что нет, чем можно пожертвовать ради развития — а чем нет. А что, если онтологических вышеназванных реальностей нет? Что, если мы вслед за Спинозой начнем утверждать наличие простых аффектов удовольствия, неудовольствия и желания — и из них выводить сугубо субъективное добро и зло? Какое тогда Вселенское восхождение форм как благо? Для кого благо? У Нового человека, который будет через миллион лет, будет, наверное, совсем иное субъективное представление о том, что есть благо?
Приведу примеры.
Предположим, у вас есть со-страдание и следующая из него идея социального равенства. Это — ваш идеал-1. Предположим теперь, что у вас есть идеал-2 — развитие. А теперь отправимся с нашими двумя идеалами, например, в рабовладельческие Афины. Вы точно понимаете, что высокая философская культура будет уничтожена, если ваш идеал-1 будет воплощен здесь в жизнь: философы будут уравнены с рабами, у них исчезнет досуг для их занятий. Но это отменит возможность воплощения идеала-2!
Отправимся теперь в Новое время, и посмотрим на Декарта. Или на Дарвина. Большинство великих творцов высокой культуры того времени были «эксплуататорами», живших «не по труду», проживавших отцовское наследство т.д. Что лучше, воплотить идеал-1 или идеал-2 в этой ситуации? Заставить их «жить по труду», зная, что это отменит возможности для их важного творчества?
На какое-то время, когда развитие производительных сил позволило приобщить к высокой культуре широкие массы населения, идеал-1 и идеал-2 совпали. Идеал всеобщего образования, например, никак не противоречил идеалу развития.
А что если со временем эти или какие-либо иные идеалы вновь разойдутся? Какой идеал приоритетнее? Является ли развитие безусловным благом? Развитие раковой опухоли — благо? Развитие ядерного оружия — всегда благо? Развитие средств мыловарения из человеческих трупов — тоже?
Является ли позитивная евгеника и
Как любовь к Высшему (или страсть к Новому) соотносится с любовью к ближнему? Не рискуем ли мы прийти к Ницше, презиравшему сострадание и сказавшему «Падающего — подтолкни!»? У Ницше тоже есть идея развития (даже несмотря на вечное возвращение!): «браком называю я волю двух создать одного, который будет больше их создавших». Но это развитие дегуманизированное (развитие по ту сторону добра и зла ), лишенное сострадания. А можем ли мы разработать философию развития , не отрицающую гуманизм? Или мы вынуждены смириться с мыслью, что наше представление о добре и зле, сострадании является преходящим: Новые люди не будут знать ничего из наших чувств? Что, если для Нового человека мы есть то же, что есть для нас животное, а для Сверхнового — мы просто камень, а для Сверх-Сверхнового — молекула и т.д.? А наше упорное желание видеть развитие гуманизированным выдает нашу неспособность отвлечься от самих себя и понять, что мы — всего лишь преходящая ступень процесса Вселенского развития?